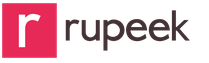Читать для взрослых жизнь в деревне. – Если бы ты не хватался всякий раз за ружье по пьянке, стала бы я прятать твой этот дурацкий патронташ, а? Папка лишь смущенно крякнул и взялся рассматривать разрушения, произведенные в печке взрывом патронов. Кошка н
Здравствуйте, милые мои жители нашего сайта! Начну, как говорится, с места да в карьер.
Когда я была в нежном детском возрасте, лет эдак с двух до пяти, меня спрашивали: «Ларисочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Я отвечала: «Лётчиком или… дояркой». Во-о-о-от такая полярность была! Насчет лётчика даже предположений не имею, чего в детскую головёнку взбрело, а вот насчёт доярки – знаю. Это оттого, что с малолетства ездила в своё любимое село, к своей любимой бабуле. Поэтому, как вы поняли, мой рассказ пойдёт о деревне.
В 80-х годах далеко не у каждого советского ребёнка было такое сокровище, как магнитофон, – не потому, что купить не за что было, просто их на всех не хватало. Так вот, в одно прекрасное лето я гостила у своей бабули, и была у меня закадычная подружка Вера. Вера была четвёртым, последним любимым ребёнком в семье, долгожданной девочкой (до этого все мальчишки были). Старший Верин брат жил с семьёй в Новосибирске, но что-то, видать, не заладилось, и стали они перебираться из сибирской столицы в совсем небольшой городок; кой-чего – в основном вещи – привезли к матери в деревню. Но самое главное – привёз Колька (так звали брата) чудо-технику магнитофон. Магнитофон и вправду хорош был, бока полированные, сам большой такой, так называемый бобинный – по-моему, «Романтик» назывался, если не ошибаюсь. Нам-то радости – не описать, тем более, что Колька обещал его Вере подарить! К вечеру меломаны деревни были в курсе, что у «стартёра» – так дразнили Веру по фамилии – был мафон. Тройка деревенских пацанов (наших друганов) попросили Веру: давай, говорят, мы к тебе придём после коров (имелось в виду, когда стадо домой пригонят), ты перепишешь с нашего мафона, чё те понравится, а мы с твоего. На том и сошлись. Мы с Верунчиком еле этих коров дождались, пригнали их домой и давай собираться на встречу. А как я упоминала, у них были вещи семьи её брата, нашлись и некоторые наряды для нас! Понадевали мы моднючие кримпленовые юбки, туфли на каЛбуках – ну и что, что на два размера больше, зато как взрослые! Глазья зёлёными тенями намазали, одно слово – «красотки»! В таком боевом наряде ждём-пождём ребят.
Вот уже солнышко скатилось за околицу, постепенно наползали августовские сумерки. Мы, пританцовывая, выглядывали в кухонное окошко, уже совсем темно, ничего не видно. Все «жданки» поели и, наконец, вышли за ограду, из магнитофона несётся: «Облади, облада, обладонна, ла, ла, лал, ла…». В метрах эдак десяти от ограды, возле дороги, стоял фонарный столб, мы вошли в круг света от этого фонаря, при этом не переставая, как в те времена выражались, «долбать шейк», т. е. танцевать. Да, забыла сказать, что напротив был небольшой пруд, весь в зарослях репейника. Я стояла в круге света чуть впереди, а Вера позади меня. Уж не помню, как точно это было, но вдруг я увидала, что из этих лопухов выскочило нечто и стало прыжками двигаться в нашу сторону, к наш кружочек света, и когда это нечто приблизилось на границу света и темноты (от фонаря) я увидела, что это что-то в человеческий рост, сгорбленное, лохматое, и двигается прыжками. Я первая опомнилась, заорала, подхватила подол своей кримпленовой юбчонки, и, скидывая на ходу туфли, рванула во двор, на кухню. Забежав, лихорадочно открыла ящики буфета, вытащила огромные ножи, схватила их в руки и в такой позе застыла у открытой двери. Не помню уж, через сколько секунд или минут, влетела на кухню Вера, повторяя: «Ой мамочки, ой мамочки!» – лихорадочно вытаскивая проволочку, воткнутую в поленницу, за которую держалась ручка двери. Закрыв дверь, Вера моментально выключила магнитофон, и мы уселись на лавке – я с ножами в руках, Вера с кочерёжкой. Просидели мы так около часа, наверное, боялись шелохнуться. Сиди-не сиди, а в избу спать-то идти надо. А так как «матофон» нам строго-настрого оставлять в кухне запретили (шибку в окне выставят, упрут, Колька башку открутит), мы поступили так: я на вытянутых руках держу тяжеленный магнитофон, Вера, чиркая спичками, пытается попасть в скважину навесного замка, и при этом (чтобы было не так страшно) поём: «Взвейтесь кострами, синие ночи…», – ну и дальше по тексту. Закрыв кухню, пулями влетели на крыльцо дома, заперли дверь на задвижку, уффф… всё, мы в безопасности.
Уже в кроватях мы шёпотом обсуждали, кто и как это увидел. И вот о чём мне Вера сказала: «Ты то-то убежала, а я никак не могу, как вкопанная стою, то на тебя, как ты бежишь, смотрю, то на ЭТО приближающееся. Не знаю, откуда потом силы взялись, как заору, вроде как бы пришла в себя, да тоже со всех ног…» Долго ещё в ночи мы так перешептывались, и порешили на том, если бы нас захотели испугать ребята, то после наших воплей, спустя пару минут они бы обозначились, а тут… А на следующий день мы встретили ребят, которые, извинившись перед нами, сказали, что не получилось прийти, потому что не пустили родители на улицу (причину я уже и не помню). То, что никто нас не разыграл, – это точно, потом бы обязательно это как-нибудь да вылезло, обозначилось. Уже уехав из деревни по окончании летних каникул, мы ещё долго с Верой в письмах вспоминали этот случай и гадали, так что же это всё-таки было? Уже будучи с весны на этом сайте, я встречала рассказ о подобном – а именно сгорбленное, покрытое шерстью, двигающееся прыжками; правда, ни название истории, ни автора не запомнила, хотела о своём написать, да как-то недосуг было, но вот сподобилась.
И ещё один небольшой случай, произошедший в деревне. Раньше, если мы выходили на улицу, то засиживались допоздна, щелкали семечки, «травили» анекдоты. И вот в одну из таких деревенских ночей мы сидели, как всегда, возле дома на лавочке, и что-то мне понадобилось выйти (куда царь пешком ходил…), отошла от компании подальше, голову подняла вверх, а на ночном небе как второе солнце, только света от него нет, вдруг от него «выкатывается» второй, третий и зависают над кладбищем. Пришла, всем показала, долго мы задирали голову на небо, наблюдали ещё часа полтора. Затем разошлись по домам. Когда пришла домой, бабуля тоже мне сказала, что видела эти шары в небе. Вот такие деревенские истории получились, совсем не страшные, но имели место.
Всем любви, удачи, терпения!
18 мыслей про “Деревенские истории ”
Очень интересно, спасибо Лоря!
А мы с сыном на днях тоже НЛО видели. Рядом с нашим домом мегастройка – краны башенные муравейники строят 16-этажные. Возвращались мы домой в сумерках, небо было затянуто низкими облаками, а стройку освещали яркие огни прожекторов. Не знаю почему, но привлёк моё внимание один кран: почему-то один яркий оранжевый фонарь от него отделился (так показалось) и плавно полетел параллельно земле в сторону нашего дома. Пролетев метров 300, этот “фонарь” остановился (над крышей жилого дома), минуты на две повисел, стал мигать, медленно угасая и…пропал.
Rina. Около года назад тоже видела НЛО.И не просто как какие-то точки,шары или диски,летящие высоко в небе,а реально большую “тарелку”,серебряного цвета без окон,без дверей.Она была от меня на таком расстоянии,что ее размер был сравним с размером машины.Вот так вот=) Ничего удивительного в НЛО не вижу.Считаю это нормальным,не одним же нам быть в БЕСКОНЕЧНОЙ вселенной.
Anna just Anna
Здравствуйте ЛОРЯ!
Как всегда спасибо за интересные истории, очень понравились.
Кстати, мы тоже не так давно, недели за две до НГ с мужем что-то похожее на НЛО наблюдали. Может у них сезон лета сейчас)) В общем висел, над районом, аккурат, напротив двери нашего дома в небе небольшой красный шарик. Висит себе значит, висит, пульсирует слегка, потом быстро-быстро, едва глаз за ним успевает, перемешается в небе на соседний район. Причем в полете менял цвет с красного на светло-оранжевый. Там зависнит повисит примерно с минуту и обратно к нам. Три раза так туда-обратно метался. Потом опять над нами завис, повисел, моргнул и свечкой в небо ушел. Видать домой полетел))
Вспоминая своё детство, первое, что приходит на ум — это лето в деревне у бабушки с дедушкой. Их уже лет пять, как нет, и я уже взрослая мадам, но те чувства и эмоции от шумных бабкиных посиделок, с историями про ведьм-русалок и чертей, вылезающих из болот, помню до сих пор. Наверняка, у многих из Вас, дорогие форумчане, жили и живут в деревнях бабушки и дедушки, кто-то сам из деревни, и, скорее всего, Вы тоже слышали немало интересного. В каждой деревне есть свои истории и легенды. Давайте поделимся
———————-
В селе Б, где жила моя бабушка, стоит старая церковь. Ей более двух веков, однако она очень крепкая, и, практически не повреждённая. Говорят, раствор для этой церкви был замешан на яйцах, поэтому она столько лет стоит невредимая. Про эту церквушку говорят, что на нехорошем месте она построена, поэтому нечисть там живёт, и не один батюшка там не приживается (сколько себя помню, церквушка почти всегда закрыта, иногда батюшки из других приходов там службу проводят.)
… Эту странную старушку я помню хорошо. Она была не в себе. Очень старенькая,какая-то красная панама, лохматые седые волосы… Старушка почти не говорила, зато всегда смеялась. А ещё, она играла в куклы, и изо рта у неё постоянно текли слюни. Я страшно боялась эту бабку.
Моя бабулька рассказывала, что «Дашка оглупела» после одного случая. Когда Дашка была ещё ребёнком, они с ребятнёй залезли в ту самую церковь, играть в прятки. Играли целый день, под конец все друг друга нашли, и собрались домой, спохватились, что Дашки нет. Долго искали, и не нашли. Поплелись домой, позвали взрослых. Отперли церковь, обыскали. Нашли Дашку под полом. Открыли крышку, глянули — она там: голова наполовину седая, трясущиеся руки, и слюна изо рта… С тех пор, она сошла с ума. До сих пор непонятно, ЧТО она увидела там, старики шепчутся, что сам «Той-то» ей показался
—————————
Бабушка рассказывала, что это произошло, когда её мама была маленькой.В какой-то большой церковный праздник отец велел идти дочке в поле работать. Девушка хотела возразить, но отец был непреклонен, ибо в Господа не верил, коммунистом был. Девушка собралась, прихватив маленького сыночка. Полдень, жара, девушка косит, рядом речка, сынишка в лодке играется, привязанной к берегу. В это время к девушке подошёл высокий человек:
— Работаешь, девка?
— Работаю, отец, работаю
Незнакомец покачал головой и ушёл. К вечеру обратно появился:
— Работаешь, девка?
— Работаю
— Праздник нынче большой, знаешь?
— Знаю, ответила девушка
— Ну и горе тебе будет, сказал незнакомец, и исчез.
И, в этот момент, мальчонка, игравший в лодке, выскользнул из неё и утонул
—————————
Наверное, в каждой деревне, есть место, про которое говорят «той-то водит», т.е нечистые места, где с людьми постоянно что-то происходит или они ходят по кругу, и не могут выбраться. Такое место есть и в селе Б — на лугу, возле старого колодца.
Был в селе мужик — гуляка и пьяница, каких поискать. Шёл когда-то зимой затемно, через тот луг, пьяный и весёлый. Слышит — звон бубенцов, смех, цокот копыт, гармошка — поравнялась с ним компания весёлых парней и девушек, на санях, с гармонью. Эй, кричат, Лёнька, поехали, довезём! Дед сел, ему налили самогону, тот захмелел ещё больше — пил, веселился, горланил песни под гармонь.
Когда опомнился — понял, что едут они очень долго, и местность совсем незнакомая, и ездят они по кругу. Дед начал читать молитвы, его встряхнуло, и он… очнулся — у того колодца, возле которого его подобрали, с замёрзшей какашкой в руке, вместо стакана. На улице рассветало…
———————————-
В общем, таких историй я знаю великое множество, если кого-то заинтересует, могу ещё написать. За достоверность не ручаюсь — всё пишу о слов бабушки. Так что, если кому-то покажется это неправдоподобным — не судите строго, а лучше поделитесь своими сказами и байками из села
зы: Самая ужасная история, моя любимая — триллер Идёт дед ночью. Катится калЯсо по дорожке, взял дед калясо, домой снес, на гвоздь повесил.
Утром проснулся — нет коляса, а вместо него бабка соседка на гвозде висит, гвоздём за исподнее зацеплена — ведьма то была
В
овка стоял на склизких мостках, держал удочку двумя руками и, прикусив язык, внимательно следил за пластмассовым поплавком.
Поплавок качался, не решаясь ни уйти под воду, ни лечь на бок…
Клев был никакой, караси брали плохо и неуверенно, подолгу обсасывали мотыля и засекаться не хотели. За всё утро Вовка поймал лишь двух – они сейчас плавали в алюминиевом бидоне, заляпанном сухой ряской.
Позади что-то треснуло, словно стрельнуло, кто-то ругнулся глухо, и Вовка обернулся – из заповедных зарослей болиголова, в которых прятались развалины старого колхозного птичника, выходили какие-то мужики. Сколько их было, и кто они такие – Вовка не разобрал; он сразу отвернулся, крепче упёр в живот удилище и уставился на поплавок, пьяно шатающийся среди серебряных бликов.
- Мальчик, это что за деревня? – спросили у него. Голос был неприятный, сиплый, пахнущий табаком и перегаром.
- Минчаково, - ответил Вовка.
Поплавок чуть притоп и застыл. Вовка затаил дыхание.
- У вас тут милиционер где-нибудь живет?
- Нет… - Вовка понимал, что разговаривать со взрослыми людьми, повернувшись к ним спиной, невежливо, но и отвлечься сейчас не мог - поплавок накренился и медленно двинулся в сторону - а значит, карась был крупный, сильный.
- А мужики крепкие есть? Нам бы помочь, мы там застряли.
- Нет мужиков, - тихо сказал Вовка. – Только бабушки и дедушки.
За его спиной зашептались, потом снова что-то стрельнуло – должно быть сухая ветка под тяжелой ногой, - и облупленный поплавок резко ушел под воду. Вовка дернул удочку, и сердце его захолонуло – легкое березовое удилище изогнулось, натянувшаяся леска взрезала воду, ладони почувствовали живой трепет попавшейся на крючок рыбины. Вовку бросило в жар – не сорвалась бы, не ушла!
Забыв обо всем, он потянул добычу к себе, не рискуя поднимать ее из воды – у карася губа тонкая, лопнет – только его и видели. Упал на колени, схватился за леску руками, откинул назад удочку, наклонился к воде – вот он, толстый бок, золотая чешуя! Он не сразу, но подцепил пальцами карася за жабры, выволок его из воды, подхватил левой рукой под брюхо, сжал так, что карась крякнул, и понес на берег, дивясь улову, не веря удаче, задыхаясь от счастья.
Что ему теперь было до каких-то мужиков!
Минчаково спряталось в самой глуши Алевтеевского района, среди болот и лесов. Единственная дорога связывала деревню с райцентром и со всем миром. В межсезонье она раскисала так, что пройти по ней мог лишь гусеничный трактор. Но тракторов у селян не было, и потому провизией приходилось запасаться загодя – на месяц-два вперед.
В этой-то дороге, кроме местных жителей никому не нужной, и видели селяне причину всех своих главных бед. Будь тут асфальт, да ходи автобус до райцентра – разве разъехалась бы молодежь? Была б нормальная дорога, и работа бы нашлась – вокруг торф, есть карьер гравийный старый, пилорама когда-то была, птичник, телятник. А теперь что?
Но с другой стороны поглядеть - в Брушково дорога есть, а беды там те же. Два с половиной дома жилых остались – в двух старики живут, в один на лето дачники приезжают. В Минчаково дачники тоже, бывает, наезжают, и людей побольше – десять дворов, семь бабок, четыре деда, да еще Дима слабоумный – ему давно за сорок, а он все как ребенок, то кузнечиков ловит, то сухую траву на полянах палит, то над лягушками измывается – не со зла, а от любопытства.
Так может и не в дорогах дело-то?..
Вернулся Вовка к обеду. Бабушка Варвара Степановна сидела за столом, раскладывала карты. Увидев внука, дернула головой – не мешай, мол, не до тебя сейчас. Что-то нехорошее видела она в картах, Вовка это сразу понял, спрашивать ничего не стал, скользнул в темный угол, где висела одежда, по широким ступенькам лестницы забрался на печку.
Кирпичи еще хранили тепло. Утром бабушка пекла на углях блины – кинула в печь перехваченную проволокой вязанку хвороста, положила рядом два березовых полена, позвала внука, чтоб он огонь разжег, – знала, что любит Вовка спичками чиркать и смотреть, как с треском завиваются локоны бересты, как обгорают тонкие прутики, рассыпаются золой.
Блины пекли час, а тепло полдня держится…
Печка Вовке нравилась. Была она как крепость посреди дома: заберешься на нее, тяжелую лестницу за собой втянешь – попробуй теперь достань! И видно все из-под потолка-то, и на кухонку можно глянуть, и в комнату, и в закуток, где одежда висит, на шкаф и на пыльную полку с иконами – что где творится…
От кого Вовка прятался на печке, он и сам не знал. Просто спокойней ему там было. Иной раз уйдет бабушка куда-то, оставит его одного, и сразу жутко становится. Изба тихая делается, словно мертвая, и потревожить ее страшно, как настоящего покойника. Лежишь, вслушиваешься напряженно – и начинаешь слышать разное: то половицы сами собой скрипнут, то в печке что-то зашуршит, то по потолку словно пробежит кто-то, то под полом звякнет. Включить бы телевизор на полную громкость, но нет у бабушки телевизора. Радио висит хриплое, но с печки до него не дотянешься, а слезать боязно. Не выдержит порой Вовка, соскочит с печи, метнется через комнату, взлетит на табурет, повернет круглую ручку – и сразу назад: сердце словно оторвалось и колотится о ребра, душа в пятках, крик зубами зажат, голос диктора следом летит…
Застучали по крыльцу ноги, скрипнула входная дверь – кто-то шел в дом, и бабушка, оставив карты, поднялась навстречу гостям. Вовка, стесняясь чужих людей, задернул занавеску, взял книжку, повернулся на бок.
- Можно ли, хозяйка?! – крикнули с порога.
- Чего спрашиваешь? – сердито отозвалась бабушка. – Заходите…
Гостей было много – Вовка не глядя, чувствовал их присутствие, - но с бабушкой разговаривал лишь один человек:
- У Анны они остановились.
- Сколько их?
- Пятеро. Велели сейчас же собраться всем и приходить к избе.
- Зачем, сказали?
- Нет. У них там, кажется, один главный. Он и командует. Остальные на улице сидят, смотрят… Что скажешь, Варвара Степановна?
- А ничего не скажу.
- А карты твои что говорят?
- Давно ли ты стал к моим картам прислушиваться?
- Да как нужда появилась, так и стал.
- В картах хорошего нет, - сухо сказала бабушка. – Ну да это еще ничего не говорит.
Вовка догадался, что речь идет о тех людях, что вышли из зарослей болиголова, и тут же потерял к разговору интерес. Подумаешь, пришли незнакомые мужики за помощью в деревню – застряла у них машина. Может, охотники; может лесники какие или геологи.
Читать Вовка любил, особенно в непогоду, когда ветер в трубе задувал, и дождь шуршал по крыше. Беда лишь, что книг у бабушки было немного – все с синими штампами давно разоренной школьной библиотеки.
- Раз велят идти – пойдем, - громко сказала бабушка. И добавила: - Но Вовку я не пущу.
- Это правильно, - согласился с ней мужской голос, и Вовка только сейчас понял, кто это говорит – дед Семён, которого бабушка за глаза всегда почему-то называла Колуном. – Я и Диму-дурачка брать не велел. Мало ли что…
Когда гости ушли, бабушка кликнула внука. Вовка отдернул занавеску, выглянул:
- Да, ба?
- Ты, герой, наловил ли чего сегодня?
- Ага… - Вовка сел, свесив ноги с печки, уперевшись затылком в потолочную балку. – Вот такого! – Он рубанул себя ладонью по предплечью, как это делали настоящие рыбаки, что в городе на набережной ловили плотву и уклейку.
- Где он? В бачке что ли? А поместился ли такой?
Бачком бабушка называла сорокалитровую флягу, стоящую под водостоком. В хороший дождь фляга наполнялась за считанные минуты, а потом бабушка брала из нее воду для куриных поилок, похожих на перевернутые солдатские каски из чугуна. Вовка же приспособился запускать в “бачок” свой улов. Каждый раз, вернувшись с рыбалки, он переливал карасей в алюминиевую флягу, сыпал им хлебные крошки и долго смотрел в ее темное нутро, надеясь разглядеть там загадочную рыбью жизнь. Бабушка первое время ругалась, говорила, что карасей в бачке держать не дело, если уж выловил - то сразу под нож и на сковородку, но однажды Вовка, смущаясь, признался, что ему рыбешек жалко, потому и дожидается пока они, снулые, начнут всплывать кверху брюхом. Бабушка поворчала, но внука поняла - и с тех пор вместе с ним ждала, когда рыба ослабеет; на сковородку брала лишь тех, что едва живые плавали поверху - тех, что не успели еще выловить вороны и соседские коты.
- Я его возьму, карася-то твоего, - сказала Варвара Степановна. - Надо мне, Вова.
Вовка спорить не стал – чувствовал, что бабушка встревожена не на шутку, и что желание ее - не пустая прихоть.
- А гулять ты больше не ходи. Посиди пока дома.
- Ладно…
Бабушка покивала, пристально глядя на внука, словно пытаясь увериться, что он действительно никуда не пропадет, а потом пошла на улицу. Вернулась она с карасем в руке - и Вовка вновь изумился невиданному улову. Бросив карася на кухонный стол, бабушка зачем-то сняла с тумбочки вёдра с водой и принялась сдвигать её в сторону. Тумбочка была тяжелая - из дубовых досок, обитых фанерой. Она упиралась в пол крепкими ножками, не желая покидать насиженное место, и все же двигалась по чуть-чуть, собирая гармошкой тряпочный половик.
- Давай помогу! - предложил Вовка, из-за печной трубы наблюдая за мучениями бабушки.
- Сиди! - махнула она рукой. - Я уж всё почти.
Отодвинув и развернув тумбочку, бабушка опустилась на колени и загремела железом. Вовка с печки не видел, чем она там занята, но знал, что под тумбочкой лежит какая-то цепь. Видно, с этой цепью и возилась сейчас бабушка.
- Что там, ба? - не утерпев, крикнул он.
- Сиди на печи! - Она выглянула из-за тумбочки, как солдат выглядывает из-за укрытия. В руке ее был отпертый замок. - И не подсматривай!.. - Она вынула из ящика стола нож с источенным черным лезвием, взяла карася, глянула строго на внука, сказала сердито: - Брысь! - И Вовка спрятался за трубой, думая, что бабушка не хочет, чтоб он видел, как она станет выпускать кишки живой, шлепающей хвостом рыбине.
Поправив матрац и подушку, Вовка лег на спину, из кучки книг вытащил старый учебник биологии, открыл на странице, где было изображено внутреннее устройство рыбы, с интересом стал разглядывать картинку, на которой неведомый школьник оставил чернильную кляксу.
На кухне что-то скрипнуло, стукнуло. Вовка не обратил на шум внимания. Сказано - не подсматривай, значит надо слушаться. Бабушка Варвара Степановна строгая, ее все слушают, даже деды приходят к ней, чтоб посоветоваться...
Наглядевшись на рыбу, помечтав о будущих уловах, Вовка отложил учебник и взял книжку со стихами. Стихи были странные, слегка непонятные, они завораживали и чуть-чуть пугали. Картинки пугали еще больше - темные, туманные; люди на них походили на чудовищ, сильный ветер трепал грязные одежды, голые деревья, словно обрубленные куриные лапы, скребли когтями по черным тучам, отвестные скалы вздымались в небо, и бушевало, ворочалось грозное море - моря в этой книге было очень много.
Вовка зачитался, потерял ощущение времени - а потом словно очнулся. В избе было тихо, только ходики на стене щелкали маятником, и в щелчках этих чудился странный музыкальный ритм.
- Ба? - позвал Вовка.
Тишина...
- Ба! - ему сделалось жутко, как бывало не раз, когда он оставался один на один с этим домом. - Ба!..
Он посмотрел на кухню. Тумбочка теперь казалась неповоротливым зверем, специально вставшим поперек кухни. В свезённом половике чудилось нечто угрожающее.
- Бааа... - жалобно протянул Вовка и посмотрел на радио.
Он стыдился своего страха, и не понимал его. Ему хотелось выбежать на улицу - но еще больший страх таился в темном коридоре.
- Ба... - Он спустил ногу на лестницу, и доска-ступенька знакомо скрипнула, чуть приободрив его. Он сполз ниже, чувствуя, как разгоняется, обгоняя щелканье маятника, сердце.
- Ба...
Бабушка пропала. Сгинула. Он не слышал хлопанья дверей. Она была на кухне. А теперь ее нет. Лишь ведра стоят. И тумбочка. И половик...
- Ба...
Он слез на пол, уговаривая себя не бояться. На цыпочках, сцепив зубы, затаив дыхание, шагнул по направлению к кухне, вытянул шею.
С соска умывальника сорвалась набрякшая капля, ударилась о железную раковину - Вовка вздрогнул, едва не закричал.
- Ба...
Дрожали ноги.
Он заставил себя выйти из-за печки, невольно поднял голову, встретился взглядом с черным лицом на иконе, замер в нерешительности. Потом медленно потянулся к тумбочке, осторожно коснулся ее рукой. И шагнул ближе - втянул себя на кухню.
- Ба...
Он увидел темную дыру в полу.
И деревянную крышку, обитую железными полосами.
И цепь.
И замок.
Он понял, куда подевалась бабушка, и напряжение отпустило его. Но сердце не унималось, и все так же дрожали ноги.
- Ба? - Он наклонился к лазу в подполье. Внизу было темно, оттуда веяло холодом и земляной гнилью. На пыльных ступеньках висели плотные тенета с коконами неродившихся пауков и с сухими скелетами пауков умерших.
- Ба! - Вовка не знал, что делать. Спуститься в подпол он не мог - боялся и глубокой темноты, и тяжелого запаха, и мерзких пауков. Представлялось ему, что стоит сойти с лестницы - и массивная крышка на петлях упадет сама-собой, и загремит звеньями цепь, заползая в скобы, и спрыгнет со стола замок, клацая дужкой, словно челюстью...
Вовка боялся даже просто опустить голову.
И он стоял на коленях, тихо канюча:
- Ба... Ну, ба...
А когда ему послышался странный звук - словно гигантскому карасю сильно нажали на брюхо, - и когда в топкой тьме почудилось движение, - он сорвался с места, взлетел на печку, подхватил, втянул за собой лестницу и с головой нырнул под одеяло.
Выбравшись из подполья, бабушка первым делом заглянула у внуку. Спросила:
- Чего бледный какой? Напугался?.. Ты, вроде, звал меня, или мне послышалось?
- А что у тебя там, ба?
- Где?
- В подполье.
- А! Старье всякое, вот проверить лазала. Но ты туда не суйся! - Она погрозила Вовке пальцем и заторопилась:
- Наши уж собираются, надо и мне...
Она закрыла лаз в подпол, задвинула две щеколды, протянула через скобы громыхающую цепь, заперла ее на замок. Тумбочку сдвинула на новое место - к самому умывальнику. Крышку лаза застелила половиком, сверху поставила табурет, на него - ведро с водой. Огляделась, отряхивая руки и передник, пошла к дверям.
- Ба! - окликнул ее Вовка.
- Что?
- Включи радио.
- Ох, шарманшик, - с неодобрением сказала бабушка, но радио включила.
Когда она ушла, Вовка слез с печки, добавил громкости и бегом вернулся в свою крепость - к книжкам, тетрадкам и карандашам, к шахматным фигуркам и погрызенным пластмассовым солдатикам. По радио передавали концерт по заявкам. Сперва веселую песню про волшебника-неумеху исполнила Алла Пугачева, потом благожелательная ведущая долго и скучно поздравляла именинников, а после этого была какая-то музыка - Вовка всё ждал, когда вступит певец, но так и не дождался. Похоже, слов для такой музыки никто не сумел написать - наверное, она была слишком сложная.
Он попытался что-нибудь сочинить сам, исчеркал три страницы, но и у него ничего не вышло.
Потом были новости, но Вовка их не слушал. Голос диктора говорил о вещах неинтересных: о выборах, о засушливом лете и лесных пожарах, о региональной олимпиаде и о сбежавших заключенных.
Вовка читал взрослую книгу. Называлась она “Всадник без головы”.
А когда прогнозом погоды закончились новости, и началась юмористическая передача, в дом вернулась бабушка. Бормоча что-то сердитое, она выключила грохочущее хохотом радио, села у окна и стала раскладывать карты.
Родных детей у Варвары Степановны не было - Бог не дал, хоть и случилось у нее в жизни два мужа: первый - Гриша, второй - Иван Сергеевич. За Гришу - гармониста и шефера - она вышла девкой. С Иваном Сергеевичем - агрономом пенсионером из райцентра - сошлась почти уже старухой.
Оба раза семейная жизнь не сложилась: через год после свадьбы Гришу зарезали на городском рынке, куда он возил совхозную картошку, а Иван Сергеевич не прожил после регистрации и двух лет - поехал на велосипеде в райцентр к родне и попал под машину.
Падчерицу свою Варвара Степановна увидела только на похоронах. Дочь Ивана Сергеевича была в черном и нарядном, заплаканные глаза ее были густо подведены тушью, а крашенные рыжие волосы выбивались из-под черной косынки, словно языки пламени.
На поминках они сели рядом, познакомились и разговорились. Падчерицу звали Надей, был у нее муж Леонид и сын Вова. Жили они в городе за триста километров от Минчакова, была у них трехкомнатная квартира, импортная машина, денежная работа и тяжелая болезнь ребёнка.
У Нади с собой оказалось несколько фотографий, и она показала их Варваре Степановне.
Одну из карточек Варвара Степановна разглядывала особенно долго.
Очень уж ей понравился белобрысый улыбчивый внучок.
Было в нем что-то от Ивана Сергеевича. И, как ни странно, от Гриши-гармониста тоже.
Вскоре пришли чужаки. Бабушка, видно, ждала их - не зря посматривала в окно, да прислушивалась к чему-то. А как увидела на тропе двух широко шагающих мужчин, сразу поднялась, смешала карты, крикнула внуку:
- Полезай на полати, спрячься под одёжей и носу не показывай, пока не скажу! Плохие люди, Вовушка, к нам!..
Деревянный настил меж печью и стеной был заставлен пустыми корзинами, завален старыми валенками и тряпьем. Вовка уже не раз хоронился там, пугая бабушку своим исчезновением - а вот поди-ка ты, оказывается, она знает его тайное укрытие!
Застонало под тяжелыми ногами крыльцо.
- Забрался?
- Да.
- И молчок, Вовушка! Что бы тут не делалось! Нет тебя дома!..
Хлопнула дверь. Протопали через комнату ноги.
- Одна живешь? - спросил голос, пахнущий табаком и перегаром.
- Одна, - согласилась бабушка.
- А вроде бы это твой внук рыбу ловил.
- Мой.
- Чего ж заливаешь, что одна?
- Так он не живет. Он гостит.
- Не вернулся еще?
- Нет.
- Смотри, бабка! У меня вся жопа в шрамах, я свист за километр чую.
- Говорю - нет его пока.
- Ну, на нет и суда нет... Слышь, кукольник, раздолбай ей ящик с хипишем.
Раздался звук удара, звякнули стекла, что-то хрустнуло, упало, рассыпалось. Вовка съежился.
- Телевизор где? - спросил сиплый голос.
- Нет у меня телевизора.
- Велосипед есть?
- Нет.
- Кукольник, пробеги-ка кругом...
Некоторое время никто ничего не говорил, только постанывали половицы, гремели подошвами сапоги, скрипели дверцы шкафов, что-то опрокидывалось, падало. Потом на пару секунд установилась такая тишина, что у Вовки заложило уши.
- Ладно, - сказал сиплый голос. - Живи пока.
Хлопнули ладоши о колени, скрипнул стул. Вовка, закусив губу, слушал, как уходят из дома чужаки и боялся дышать.
Всхлипнула и осеклась бабушка. Пробормотала что-то - то ли молитву, то ли проклятие.
И снова сделалось тихо - даже ходики не щелкали.
- Вылезай, Вова... Ушли они...
Вовка выполз из-под одежды, отодвинул валенки, выбрался из-за корзин, спустился с печки, подошел к бабушке, прижался к ней. Она обняла его одной рукой, другой обвела вокруг:
- Так-то зачем? Изверги...
Из проломленной решётки радиоточки вывалился искореженный динамик - словно раздавленный язык из разбитых зубов. Перевернутые ящики шкафа рассыпали по полу баночки, пуговицы, фотографии, письма, открытки, дорогие вовкины лекарства. Часы прострелили пружиной тюлевую занавеску. Под вешалкой грудой лежала одежда, с кровати была сброшена постель, перекосилось мутное от старости зеркало, три обшарпанных чемодана-кашалота вытошнили свое содержимое...
Вовка и не подозревал, что у бабушки есть столько вещей.
Ночью сон к Вовке не шел. Он закрывал глаза - и видел качающийся среди бликов поплавок. Было жарко. На кухне горел свет, там бабушка пила с соседями чай. Они монотонно шептались, тихо гремели чашками и блюдцами, шелестели обертками лежалых конфет, - звуки порой накрывали Вовку, глушили сознание, и он забывался на время. Ему начинало казаться, что он сидит рядом с гостями, прихлебывает обжигающий чай и тоже говорит что-то важное и непонятное. Потом вдруг он оказывался на берегу пруда, и тянул из воды еще одного карася. Но леска лопалась - и Вовка с маху садился на мокрые скользкие мостки, и замечал раздувшуюся пиявку на щиколотке, тонкую струйку крови и шлепок буро-зеленой тины. А поплавок скакал по блещущим волнам, уходя все дальше. Острое разочарование приводило Вовку в чувство. Он открывал глаза, ворочался, видел на потолке свет, слышал голоса, и не мог понять, сколько сейчас времени...
Однажды он очнулся, и не услышал голосов. Свет на кухне всё горел, но теперь он был едва заметен. Тишина давила на виски, от нее хотелось спрятаться, но она ждала и под одеялом, и под подушкой. Был там и поплавок на светящейся серебряной ряби.
Долго ворочался на сбитой простыне Вовка, напряженно вслушивался, не выдадут ли свое присутствие затаившиеся старики. Потом не выдержал, приподнялся, заглянул в кухню.
Там действительно никого не было. А из открытого подполья, похожего сейчас на могилу, широким столбом лился свет.
Как на картинке в детской Библии.
Рано утром яркое солнце заглянуло в избу и разбудило Вовку, пощекотав ему веки и ноздри. Бабушка спала на кровати, отвернувшись лицом к стене, с головой укрывшись лоскутным одеялом. В комнате был порядок - только часы пропали и радио, да белел свежий шрам на тюлевой занавеске.
Стараясь не потревожить бабушку, Вовка слез с печи, быстро оделся, достал из хлебницы кусок подсохшей булки, сунул за пазуху. На цыпочках прошел он через комнату, тихо снял с петли крючок запора, скользнул в темный коридор, пронесся через него, отворил еще одну дверь и выскочил на залитый светом просторный мост, откуда было два выхода на улицу - один прямо, другой через двор. Взяв из угла удочку, заляпанный ряской бидон и жестянку под наживку, Вовка покинул избу.
Вчерашнее почти забылось, как забываются днем ночные кошмары. Горячее солнце весело семафорило: всё в порядке! Легкий теплый ветер одобряюще и ласково ерошил волосы. Беззаботно звенели и цинькали пичуги.
А где-то в пруду, в тине, ворочался словно поросенок здоровенный карась. Такого на мотыля не поймать. Что ему мотыль? Такого надо брать на жирного бойкого червя, обязательно ярко-розового и с коричневым ободком. И на большой крючок, не на обычный заглотыш...
На задворках раньше была навозная куча. Она давно уже перепрела и заросла травой, но червяки там водились знатные. Вовка открыл это случайно, когда, начитавшись про археологов и ученого Шампольона, решил заняться раскопками вокруг бабушкиного дома, и выяснил, что самая богатая с точки зрения археологии область находится позади двора. Его добычей тогда стали лоснящиеся глиняные черепки, чьи-то большие кости, подкова в ржавой шелухе и зеленый стеклянный камушек, очень похожий на изумруд...
Вовка бросил удочку на росистую траву, поставил рядом бидон и взял прислоненную к венцу сруба лопату. И тут из-за угла двора шагнул на свет кто-то высокий и худой, в мятой клетчатой рубахе, выцветших солдатских брюках и сапогах. Длинные руки его болтались, словно веревки, а на тонких пальцах была бурая кровь. Вовка едва не закричал, вскинул голову.
- Ты тетки Варвары внук? - спросил человек, и Вовка узнал его.
- Да, - сказал он неуверенно, не зная, как нужно разговаривать со взрослым дурачком.
- Она ведьма, - сообщил слабоумный Дима и сел на корточки, разглядывая Вовку странными глазами. - Это все знают… - Он улыбнулся, показав гнилые пеньки зубов, закивал часто и мелко, надул шеки. Потом выдохнул резко - и быстро, словно боялся захлебнуться словами, заговорил:
- Да, ведьма, я знаю, тетка Варвара ведьма, все знают, даже в Тормосове знают, и в Лазарцеве знают, раньше всё ходили к ней, лечились, а теперь не ходят, боятся. А как не бояться - у нее два мужа были, и умерли оба, а детей не было, а внук есть. Ведьма, точно говорю, все знают, а в подполье ведьмак у нее, она ему мужей скормила, и тебя скормит, и всех скормит - как кур скормит, кровью напоит, мясом накормит...
Вовка попятился, не решаясь повернуться к Диме-дурачку спиной, не в силах оторвать взгляд от его чумных глаз. Легкая тучка прикрыла солнце, и вмиг сделалось зябко.
- Не веришь? - медленно поднялся Дима. - Не веришь про бабку? А она ночью кур рубила, я видел, луна светила, а она топором их по шее - раз! они крыльями машут, убежать от нее хотят, а головы-то уже нет, и кровь брызжет, пена из шеи идет, шипит, а они уже мертвые, но еще живые, она ими трясет, вот, вот, вот! - Он из кармана брюк вытащил куриные головы, на грязных ладонях протянул их Вовке. И тот выронил лопату, шарахнулся в сторону, поскользнулся на мокрой траве, упал руками в куриный помет, перевернулся, вскочил, запнулся больно о чугунную поилку и, не чуя ног, забыв об удочке, о червяках, о карасе-поросенке, помчался назад, в дом, на печку, под одеяло.
В половине восьмого на шкафу задребезжал старый будильник, и бабушка встала. Первым делом она подошла к окну, открыла его, выглянула на улицу, пробормотала:
- Дождик к обеду соберется...
Вовка сидел тихо, но бабушка словно почуяла неладное:
- Спишь, запечный житель?
- Нет.
- Ты не заболел?
- Нет.
- На улицу не ходил?
- Я совсем немножко.
Бабушка вздохнула:
- Ох, бедовая голова. Говорила же, не ходи пока гулять... Видел тебя кто?
- Дима.
- Дурачок? Он-то что делал?
- Не знаю.
- Напугал тебя?
- Да... Чуть-чуть...
- Наговорил, чай, всякого. Ведьмой называл меня?
- Называл.
- Ты, Вова, его не слушай, - строго сказала бабушка. - Дурачок он, чего с него взять... - Она вновь подошла к окну, захлопнула его, опустила медный шпингалет. - Надо мне идти. В восемь часов велели нам еще раз собраться. Теперь по два раза на дню будут нас как скотину сгонять, да считать по головам, не пропал ли кто... Ты, Вова, сядь у окна. Я им опять скажу, что ты с самого утра, не спросившись, в лес ушел. Дом прикрою, но если увидишь, что чужой идет, спрячься, как вчера спрятался. Хорошо?
- Хорошо, ба...
Оставшись один, Вовка сел к завешенному жёлтым тюлем окну. Он видел, как мимо колодца прохромал, опираясь на клюку, дед Семён, которого бабушка почему-то называла Колуном, как из-за кустов сирени вышла на тропку соседка баба Люба, единственная, у кого хватало сил держать корову, как она встала под корявой ветлой и дождалась бабушку Варвару Степановну, а потом они вместе направились к избе бабушки Анны Сергеевны, что находился на другом посаде возле школы-развалюхи, с головой заросшей крапивой. Там уже стояли люди, но кто они - пришлые мужики или местные старики - Вовка разглядеть не сумел. Забыв о своем страхе перед пустым домом, он следил за собирающимися людьми, и чувствовал, как в груди рождается страх новый - рациональный и конкретный - страх за бабушку, за местных стариков, за себя и за родителей.
Очень уж всё было похоже на один фильм про войну, где мордатые фашисты с голосами, пахнущими табаком и перегаром, сгоняли послушных людей в кучу, а потом запирали их в сарае и, обложив соломой, сжигали.
Вернулась бабушка не одна, а с тремя чужими мужиками, небритыми, хмурыми, страшными. Один из них держал бабушку под локоть, два других шагали далеко впереди - у первого тонкий ломик на плече, у второго топор, заткнутый за солдатский ремень. Они сбили замок и ввалились в избу - Вовка слышал, как словно копыта загремели на мосту крепкие подошвы, и залез под рваную фуфайку, навалил сверху пыльных мешков, отгородился корзинами и валенками, прижался спиной к бревенчатой стене.
Через несколько секунд в доме уже хозяйничали чужаки: сдвигали и опрокидывали мебель, срывали висящую на гвоздях одежду, рылись в шкафу. Потом один забрался на печь - и с полатей полетели вниз корзины и тряпье. Вовка крепко вцепился в накрывший его ватник, тихонько поджал ноги. Чужой человек дышал рядом, надрывно и страшно дышал, словно зверь, - ему было тесно и неудобно под потолком, он стоял на четвереньках, на хлипкие полати влезть боялся, и потому тянулся далеко вперед, в стороны, выгребая барахло, копившиеся здесь многие десятилетия.
А потом дыхание оборвалось, и злой голос торжественно объявил:
- Здесь он, сучёныш!
Холодная шершавая ладонь крепко схватила Вовку за щиколотку, и неодолимая сила потянула его из укрытия.
Вовка заверещал.
Его выволкли, словно нашкодившего щенка, бросили на середину комнату, перевернули ногой, прижали к полу.
А потом два мужика били бабушку - деловито и лениво, словно тесто месили. Бабушка закрывала руками лицо, молчала и долго почему-то не падала.
В полдень сделалось темно, будто поздним вечером. Иссиня-черная туча приползла с севера, гоня перед собой ветер с пыльными бурунами, издалека возвещая о своем приближении густым рокотом. Первые капли упали тяжело, словно желуди, прибили ветер и пыль, испятнали крыши. Блеснула молния, ушла в землю где-то у старого брода, гром проверил крепость оконных рам. И вдруг ливануло так, что в печах загудело...
Первым явился дед Осип, закутавшийся в военную плащ-накидку. Разделся он на мосту, прошел в дом, оглядел беспорядок, присел возле бабушки, лежащей на кровати, взял ее за руку, покачал головой.
- Я в порядке, Осип Петрович, не переживай, - сказал она, чуть ему улыбнувшись.
Вовка был здесь же, возле бабушки, он забился в угол и бездумно крутил никелированные шарики на решетчатой спинке кровати.
- Сейчас остальные соберутся, - сообщил Осип Петрович и отправился на кухню за табуретками.
Через пять минут появились дед Семён и баба Люба, чуть позже пришла бабушка Елизавета Андреевна, а вскоре и бородатый Михаил Ефимович постучался в окно.
- Кажется, все, - сказал Осип Петрович, когда старики расселись возле кровати. - Других бабок я звать не стал, а Лёшка и так всё знает.
- Может внуку на печку пока лучше? - негромко спросил дед Семён.
- Пускай сидит, - сказала бабушка. И помолчав, добавила: - Но вы тут поосторожней.
- Это понятно, - тряхнул мокрой бородой Михаил Ефимович.
- Начинай, Осип Петрович, - велела бабушка. - Неча резину тянуть. Что ты там узнал?
Дед Осип кивнул, утер рот, откашлялся, словно перед большой речью. И сказал:
- С Анной я поговорить успел. Машину они ждут. Охотничье ружье у них и автомат.
- Завтра четверг, - заметил дед Семён. - Автолавка должна приехать.
- Вот и я о том же. Лавка приедет, а эти тут как тут. С водителем связываться не станут, его сразу - в расход. А кого-нибудь из нас с собой прихватят. А может и всех - фургон большой.
- В заложники возьмут, - кивнул Михаил Ефимович.
- А может и не приедет завтра, - заметил дед Семён. - Вдруг Колька запил?
- Да какая разница? - махнула на деда рукой баба Люба. - Не завтра, так послезавтра. Не автолавка, так за Вовкой мать с отцом из города вернутся. Или твой внук на выходные объявится.
- А продавщица Маша девка видная, молодая, - вздохнула Елизавета Андреевна. - Ох, быть беде...
- Ты не кличь беду-то, - цыкнула на нее Варвара Степановна. - Бог даст, выдюжим.
- У тебя всё ли готово, Варвара?
- Готово, Михал Ефимыч. Подняла.
- Справимся ли?
- Да уж как-нибудь, он еще не во всей силе... А что остается делать-то?
- Делать нечего, - вздохнув, согласился дед.
- Они ставни не открывают, - продолжил Осип Петрович. - Кроме дверей да ворот выбраться им неоткуда. Анна сказала, что один у них всегда ночью не спит, остальных сторожит. Ее одну никуда не пускают, видно, боятся, что мы пожар запалим, если она убежит. Но у нее на печи стоит ящик железный, еще Андрей Иванович, был жив, заволок. В том ящике она и спрячется, а дверцу проволокой изнутри замотает, там скобы есть подходящие. Петли она уже подмазала, и проволоку принесла. Говорит - переждет, пока он там... Ставни крепкие, Андрей Иванович, пусть земля ему будет, хозяйственный мужик был, но мы их всё же подопрем на всякий случай слёгами. Дверь откроем ножом, у нее там крючок через щель легко поднимается, если знать, как. И как запустим, сразу же снаружи запрем...
- Ох, страшное дело мы затеяли, - вздохнула Елизавета Андреевна. - Может, всё же, иначе как надо?
- Страшное... - признал Осип Петрович. - Да только не люди это, Лиза. Хуже зверей они... - Осип Петрович кинул взгляд на притихшего Вовку, отвел глаза, понизил голос до едва слышного шепота. - Анна говорила, у них с собой мяса полмешка. Сказали - “телок”, велели ей приготовить. А она как глянула... Не телятина там, нет... Совсем не телятина... И не смогла она... Они потом уж сами... Жарили и ели... Понимаешь, Лизавета? Резали, жарили. И ели...
Убаюканный голосами стариков и шумом ливня, Вовка сам не заметил, как задремал. А очнулся от пугающего ощущения одиночества. И действительно - рядом никого не оказалось, только пустые стулья и табуретки окружали мятую постель.
На улице чуть просветлело, и дождь уже не так сильно колотил в окна. Пол почти высох, но беспорядок никуда не делся, и оттого думалось, что старики не сами ушли из дома, а были неведомо куда унесены пронессшейся по избе бурей...
Лаз в подпол оказался открытым - и Вовка, обнаружив это, нисколько не удивился. Он не стал к нему приближаться, некстати вспомнив слова Димы-дурачка о ведьмаке, сидящем в бабушкином подполье, кому она скормила своих мужей, и кому еще скормит всю деревню. Вовка обошел черный квадрат лаза, прижимаясь к печке, и - не утерпел - вытянул шею, заглянул в него.
Но ничего особенного не увидел, лишь почудились ему звуки - утробное ворчание, словно гром под землей ворочался, да металлический лязг...
Серый день тянулся медленно.
Вылезла из подполья бабушка, закрыла его, замаскировала половиком и табуретом, полежала немного на кровати, уставившись в потолок. Отдохнув, позвала внука, и они вдвоем стали потихоньку наводить порядок.
Дождь унялся, моросил уныло. Выглянувшая на улицу бабушка назвала его морготным. Попеняла, что дорога может раскиснуть, и автолавка тогда приедет лишь на следующей неделе. А хлеба уже нет, одни сухари остались, и сахар последний, и заварка вот-вот кончится...
Она говорила отстраненно, думая совсем о другом, но словно желая ворчанием своим успокоить и себя, и внука.
После запоздалого обеда они играли в карты. Бабушка пыталась шутить, а Вовка пытался улыбаться. Несколько раз хотел он спросить, кто же заперт в темном подполье. Но не решался.
И когда загремел над головой будильник, Вовка вздрогнул так, что выронил карты из рук. Они рассыпались по одеялу вверх картинками, бабушка внимательно на них посмотрела, покачала головой и велела внуку собираться.
Вовка одевался и думал, что, наверное, так же послушно и тихо одевались те люди из кино, которых потом фашисты сожгли в сарае.
Собрание завершилось быстро, но совсем не так, как думали старики...
Из слепого дома Анны Сергеевны вышли те самые люди, что били Вовкину бабушку. Один - пошире, с ружьем висящим поперек груди - спустился к построившимся старикам. Другой - повыше, с коротким автоматом под мышкой - остался на крыльце. У них обоих были колючие глаза, тяжелые подбородки и косые тонкие рты. Но Вовка не смотрел на их лица. Он смотрел на оружие.
Сыпал дождь и было довольно зябко. Старики стояли понурые, глядели в землю, не шевелились. Даже Дима-дурачок, опухший от побоев, окривевший, стоял смирно, навытяжку, лишь щеки надул...
Человек с ружьем прошелся вдоль строя, выплюнул изжеванный чинарик, обернулся к товарищу, кивнул:
- Все.
- Грызуна уцепи, - сказал тот, что стоял на крыльце. И человек с ружьем взял Вовку за плечо, выдернул из строя, перехватил за шиворот.
Бабушка Варвара всплеснула руками. Дед Семён подался вперед.
- Стой! - вздернулся автоматный ствол. - Тихо! Ничего с ним не будет. Перекантуется с нами, только ума наберется...
Вовку затолкали на крыльцо, пихнули в дверной проем, поволокли по темному коридору.
- А теперь по хатам! - надрывался на улице сиплый голос. - Всё, я сказал! Короче!..
Его не тронули; толкнули в угол, где, сложив руки на коленях, сидела бабушка Анна, - и оставили в покое, даже не сказали ничего.
В комнате было сильно накурено - тусклая лампочка словно в тумане тонула. Иконы в красном углу лежали вниз ликами - будто кланялись. На круглом, застеленном скатерью столе громоздилась грязная посуда. На подоконнике чадила керосинка, и булькало в закопченной кастрюле вязкое темное варево.
- Всё хорошо, Вова, - негромко сказала бабушка Анна. - Ты ничего не бойся, только не ходи никуда, а если чего-то надо, разрешения спроси...
Чужаки занимались своими делами. Один спал на лавке у печи. Два других, сидя на кровати, играли в карты - точно так, как совсем недавно играл с бабушкой Вовка. Человек с ружьем, сев на пол, принялся точить бруском нож-финку - и от сухого зловещего шарканья у Вовки закружилась голова, и мурашки побежали по спине.
- Я боюсь, - прошептал он.
- Ничего, ничего, - бабушка Анна пригладила его волосы. - Всё будет хорошо, Вова. Всё будет хорошо...
Поздним вечером все чужаки собрались вокруг стола. Бабушка Анна принесла им котелок с варёной картошкой, блюдо малосольных огурцов и пяток яиц.
- Негусто, - буркнул один из незваных гостей.
- Так подъели уже всё, - спокойно сказала она.
Вовка к этому времени уже залез на печку. Его мутило, сильно болела голова, но он крепился, и боялся лишь, что болезнь, о которой он стал забывать в деревне, теперь вернется и убьет его.
Печь у Анны Сергеевны была куда шире, чем бабушкина. Значительную часть, правда, занимал бестолковый железный ящик, но и оставшеегося места с лихвой хватило бы на трех взрослых мужиков. А вот потолок располагался слишком низко - Вовка даже сесть толком не мог. Случись ночью шум - вскочишь, дернешься, обязательно лоб расшибешь. Или затылок.
Вовка перевернулся на бок, подтянул колени к животу, заскулил тихо.
Внизу чавкали чужаки, прихлебывали что-то, о чем-то переговаривались, шептали, шипели будто змеи. Вовка сейчас и представлял их змеями - большими, толстыми, свившимися в кольца, - точно такого змея потыкал копьем всадник на одной бабушкиной иконе.
- Не спишь еще, Вова? - спросила Анна Сергеевна, пристав на ступеньку лесенки.
- Нет.
- Иди сюда... Слушай внимательно... - Она говорила едва слышно, на самое ухо. Осекалась, оборачивалась, осматривалась. И продолжала: - Мы с тобой сегодня ночью заберемся вон в тот ящик. Тихонько - чтоб нас никто не услышал. Сможешь?.. Хорошо... Тут будет шумно, но ты не пугайся. Нас в ящике никто не тронет. Не достанет... А потом всё кончится. Всё хорошо кончится... И быстро... Главное - забраться в ящик... Но пока его не касайся... Кивни, если понял... Ну, вот и ладно...
Бабушка Анна спустилась на пол, пропала из виду. Возникла в комнате, собрала кое-какую посуду, унесла, погремела, постучала на кухне. Вернувшись, сказала громко:
- Я ложусь.
Ей кивнули.
- Ну, тогда спокойной ночи, - сказала она, поворачиваясь.
И Вовка заметил, что она холодно улыбается.
Этой ночью Вовка не спал совсем.
Бабушка Анна ворочалась рядом, притворялась спящей. В комнате на разные лады громко храпели чужаки. Тусклый огонек ночника едва освещал циферблат часов. Если долго присматриваться, то можно было заметить, как движется минутная стрелка - черная на темно-сером. Вовка следил за ней, и думал о рыбалке, о бабушке Варваре Степановне и о родителях. Еще он думал о том, как будет забираться в железный ящик.
На скрипучем стуле посреди комнаты лицом к двери сидел один из бандитов. На коленях его лежал автомат. Бандит не спал, он ерзал на сиденье и время от времени чиркал спичкой, прикуривая. В два часа ночи он разбудил одного из товарищей, отдал ему автомат и, постанывая от удовольствия, растянулся на полу. Через минуту он уже храпел, а Вовка пытался разобрать, что бормочет его сменщик...
Время было темное и вязкое, как то варево на керосинке.
В начале четвертого бабушка Анна открыла глаза.
- Сиди, жди, - шепнула она Вовке и, кряхтя, червяком полезла с печи.
В комнате она что-то сказала человеку с автоматом, и тот поднялся. Вместе они вышли за дверь и пропали почти на десять минут - Вовка уже начал тревожиться, и гадал, а не пора ли ему залезть в ящик. Но дверь открылась снова - в комнату на стену прыгнуло пятно света, похожее на глаз. Погасло. Две темные фигуры одна за другой перешагнули порог, встали, о чем-то тихо переговариваясь. Кажется, бабушка Анна хотела оставить дверь открытой, чтобы хоть немного проветрить комнату. Уговорила - распахнула широко, приставила круглую кадушку. И, хлебнув на кухне воды, снова полезла на печь.
- Отдушину в туалете открыла, - тихо сообщила она Вовке, укладываясь рядом и подпирая голову кулаком. - Как с Осипом и договаривались - знак ему. Теперь подождем полчаса и полезем... Ты не спи...
Чем меньше времени оставалось до назначенного срока, тем сильней колотилось Вовкино сердце. Лежать и просто ждать было совсем невмоготу. Вовка не знал, что вот-вот произойдет в этом доме. Догадывался. Но наверняка - не знал. И незнание это душило его.
- Пора, - шепнула бабушка Анна, перевернулась на другой бок, подвинулась, тесня Вовку, и осторожно потянула на себя железную дверцу с сеточкой мелких отверстий.
Забиралась Анна Сергеевна неуклюже, медленно; лаз был маленький, чуть больше выреза в пододеяльнике, и она заползала в него по частям: сперва сунула голову, потом одно плечо, другое, туловище, зад, ноги... Не так уж много места осталось для Вовки.
Где-то - вроде бы на улице - отчетливо стукнуло, лязгнуло.
Человек с автоматом поднял голову, шумно потянул нозрями воздух.
- Быстрее, Вова, - поторопила бабушка Анна.
Звук повторился - громче, ближе; загремело железо, заскрипело дерево, пахнуло сквозняком.
И Вовка, понимая, что выходят последние секунды, ногами вперед полез в крепкий тесный ящик.
- Дверку, дверку не забудь закрыть...
В темноте коридора словно упало что-то, покатилось, грохоча. Бандит вскочил, наставил на дверь автомат. Храп оборвался, заскрежетала кровать. Заспанный голос спросил недовольно:
- Что за шухер?
- Там есть кто-то!
- Свет зажги.
- Клоп у самой двери. Боюсь.
- Ты меня бойся, вахлак! Шпалер тебе на что?
Что-то тупо ткнулось в окна. И словно босые ноги прошлепали по половицам. Остановились.
- Вижу... - свистящий шепот.
- Шпали, дура!
Вспышка, выстрел. И удар - сочный, словно арбуз уронили; всхрип, клёкот, утробное рычание. Тут же - длинная автоматная очередь, ругань и крик, - отблески дульного пламени, стремительные тени на потолке.
- Проволока, Вова! Проволока! Заматывай быстрей!
Влажный шлепок, хруст, треск, дикий вопль. Мощные удары, грохот, мат, рык, вопли. Стон, скрежет, хрип...
И чавканье, сопение, хлюпанье - словно огромный карась сосет тину.
- Тихо, Вова... - в самое ухо. - Тихо... Только бы не услышал... Тихо...
Бесконечно долго лежали они в железном гробу и слушали страшные звуки. Отнялись ноги и руки, железные ребра больно врезались в ребра живые, от тяжелого запаха кругом шла голова, и комом сжимался желудок.
Потом заскрипели выдираемые гвозди, застучали топоры - и в избу хлынул серый утренний свет.
- Здесь он, вижу! Быстрей, пока его светом оглушило!
- Не волнуйся, Семён! Теперь он никуда не денется. Обожрался, как пиявка.
Голоса заглохли, но через несколько секунд толпой ввалились в дом:
- Лёшка! Сетку сюда давай! Варвара, куда ты прешь! Рядом, вровень держись! Ухватом на шею, так, ага! Лизавета, мать твою! Ногу ему держи, сколько я вам объяснять должен! И зеркалом, зеркалом! На свет его! Бабы, зеркалом светите! А вы щитом двигайте! Вот так!
- Не уйдет, голубчик! Отяжелел!
- Говорю, светом его оглушило!
- Да он днем всегда такой снулый.
- Хватит вам! Петли лучше давайте!
- Госпади! Как же он их ухайдакал!
- Вовка! Анна! Вы там живы?
Грохот по железу.
- Живы!
- Ну, слава Богу. Выбирайтесь из свово танка...
Через комнату Вовку вели, закрыв ему глаза ладонями. Он чувствовал под ногами скользкое и чавкое, и знал, что это такое.
Бабушка Варвара Степановна встретила внука на улице, бросилась к нему, присела, обняла крепко:
- Как ты, Вовушка?
Он отстранился и долго смотрел ей в лицо, видя, как темнеют, наливаясь страхом её глаза. Ответил, когда страху сделалось так много, что смотреть на него стало невыносимо:
- Они меня не трогали.
- А я так испугалась! Не знала, что и делать. Мы уж думали, но вот так вот всё и вышло... - Она заплакала - это страх слезами уходил из ее глаз. - Прости меня, Вовушка... Извини уж... Так вот вышло...
- Ба, - серьезно сказал Вовка. - А кто это был?
- Бандиты, Вова... Очень плохие люди...
- Нет, я про этого... - Он вытянул руку. - Ну, который у тебя в подполье живет...
- Упырь это, Вова... - обернувшись, сказала бабушка. – Упырь наш…
Упыря вели всемером, привязав его к длинным крепким шестам. Он был с ног до головы перемазан кровью, кожа висела на нем жирными складками, короткие ноги с большими ступнями вырывали из земли клочья дерна, лысая шишковатая голова подрагивала, и даже со спины было видно, как безостановочно шевелятся огромные челюсти. Упыря мотало из стороны в стороны, он качался, как поплавок на воде. И семеро людей мотались вместе с ним.
- Не смотри на него, Вовушка. А то снится будет.
- Он не страшный, ба... Мне там было страшно, а теперь нет.
- Ну, вот и хорошо... Вот и ладно...
Они отошли в сторону и сели на пень давно спиленной ветлы, повернув лица к затянутому дымкой солнцу и полной грудью вдыхая свежий воздух.
- А может и не упырь, - сказала бабушка. - Это мы его так прозвали, а пес его знает, кто он такой... Только ты Вова, никому про него не рассказывай, ладно?
- Ладно, - легко пообещал Вовка. - А откуда он у тебя, ба?
- Так он всегда у нас жил. Сколько себя помню... Вернее, не жил. Его ж убить нельзя, значит он и не живет... - Бабушка вздохнула. - Он полезный, только надо знать, как подступиться, и привычка нужна. Мы в войну пахали даже на нем. А как фашисты здесь объявились, так троих однажды... Вот как сегодня... Еще крыс и мышей от него не бывает. И тараканы переводятся. И болезни все проходят, кто с ним рядом. Я ведь потому твою мать и уговаривала так долго... Чтоб она тебя ко мне... Мы ж потому знахарками да колдунами и слывем. И живем долго, не болеем... Упыриная сила лечит. Только вот от беды она не бережет... - Бабушка посмотрела на серьезного внука, взъерошила ему волосы, вспомнила обоих своих мужей, шофера Гришу, да агронома Ивана Сергеевича, и слезы сами навернулись на глаза. - Не бережет, Вовушка, и счастья не приносит... - Голос ее дрогнул, и она закашлялась, а потом долго сморкалась в рукав и вытирала слезы, и всё смотрела высоко в небо, и надеялась, что на нее сейчас тоже кто-то смотрит оттуда, внимательный, всё понимающий и всепрощающий.
А почему бы и нет: раз есть на земле упыри, значит и ангелы где-то должны быть...
Почему бы и нет...
рассказ второй: Черный кобель Жук
 |
Фёдор Иванович плел себе гроб.
Он любил сообщать это новым людям, коих в Оленине появлялось немного, - и веселился по-детски, видя их недоверие.
- Сам, вот этими вот руками! - Он показывал заскорузлые ладони. - Из ивовой лозы, вымоченной, обшкуренной - всё как положено. Точно, как отец меня учил. Как дед. Мы, Фомичёвы, испокон веку лозу плели. Всё, что есть у нас, - всё из лозы сделано. Совершенно всё!..
Хозяйство у Фёдора Ивановича было самое обыкновенное: бревенчатая изба, поверх старой дранки крытая волнистым, замшелым уже шифером; покосившийся двор с сеновалом и тремя стайками; белёная треснувшая печка, скрипучий диван с неудобно выпирающими пружинами, дубовый, обитый клеенкой стол, черно-белый телевизор “Горизонт”, завешанный пыльной салфеткой, засиженное мухами зеркало, да набор стеклянных потёртых рюмок.
- Прямо вот всё? - не верили чужаки.
- Всё! - яростно кивал Фёдор Иванович. - Даже памятники на могилках - и те из лозы. А я вот теперь гроб плету. Для себя. Пора уж...
Если сомневающийся собеседник просил показать ему этот самый гроб, Фёдор Иванович хитро щурился, скалил редкие желтые зубы и приглашал гостя в дом. Посреди просторной комнаты, заваленной корзинами, пучками ивовых прутьев и грудами ошкурок, хозяин вставал в театральную позу, разводил руками и говорил:
- Вот!
Пока гость осматривался, пытаясь выглядеть хоть что-то, отдаленно напоминающее гроб, Фёдор Иванович с удовольствием растолковывал:
- Мы, Фомичёвы, испокон веку плетением на жизнь зарабатывали. В бывалошное время за зиму столько корзин делали, что на трех возах увести не могли. И лари плели - сундуки целые, и шкатулки, и подносы, и вазы. А уж сколько двудушек колхозу сдали - не пересчитать! Всё, что здесь есть - всё на доходы от плетения приобретено. Только тем всегда и жили. Вся семья, все предки. Я-то, был грех, ушел по молодости от семейного дела, да вот, жизнь опять всё по местам расставила. Всяк сверчок знай свой шесток. - Фёдор Иванович кивал головой, соглашаясь со старой народной мудростью, и добро улыбался, потирая большие кургузые ладони.
Пенсия у него была маленькая - едва на еду хватало. Потому плетение корзин, лукошек, коробов, шкатулок, а так же игрушечных лапоточков да непрочных соломенных шляп было для него ощутимым денежным подспорьем. Продажей своих изделий Фёдор Иванович не занимался - сдавал всё оптом Володьке Топорову из соседнего Мосейцева, а уж тот развозил товар по рынкам: в пятницу торговал в райцентре, на выходные отправлялся в город, а в среду ехал в соседнюю область, к музею-монастырю, куда как раз в этот день привозили в огромных автобусах-аквариумах иностранные экскурсии.
- Почем хоть продаешь-то, Володька, иностранцам работу мою?
- Не я продаю. Жена.
- Так, чай, знаешь цену-то?
- Знаю. Только тебе, дядя Фёдор, не скажу. А то сон потеряешь.
- Так, ведь, и так не сплю.
- Значит, еще и есть перестанешь...
Иногда Фёдор Иванович, устав от монотонной работы, на несколько дней откладывал лозу и с душой мастерил из соломы и тряпок неказистое чучелко. Наряжал его в холстину, из бобов делал глаза, из жёлудя или лесного ореха - нос, на голову нахлобучивал соломенную шляпу, вклеивал в мочальные руки сноп пшеницы или овса, обувал короткие ножки в берестяные лапоточки. Чучел этих Володька называл “домовёнками”, говорил, что они хорошо продаются и просил дядю Фёдора делать таких побольше. Но тот отказывался - уж больно муторное было дело, затратное. Корзинки плелись куда легче и быстрей.
Большую часть заработанных денег Фёдор Иванович складывал в старый глиняный горшок, в котором когда-то жена его хранила сметану.
- На похороны на свои зарабатываю, - весело признавался Фёдор Иванович гостю, не показывая, впрочем, заветной кубышки. - Вот оно и получается, что гроб я себе плету. Из лозы. Вот этими вот руками...
Черный пес появился у Фёдора Ивановича осенью, в пору, когда тихое бабье лето только сменилось хмурыми октябрьскими дождями.
- В лесу подобрал, - рассказывал Фёдор Иванович зашедшему в гости соседу. - Около дороги, где поворот на Тимофеевское был. К дереву его цепью привязали - видно, чтоб назад на прибежал... Вон, гляди, всю шею изодрал, когда с цепи рвался... Ах, ну что за люди такие!..
Пёс был плох. Он лежал возле печи на старой фуфайке; тощие ободранные бока его тяжело ходили, мутные глаза слезились, а из пасти текла вязкая, будто слизь, слюна.
- Ну как бешеный? - сосед опасливо косился на собаку.
- Да нет! - отмахивался Фёдор Иванович. - Бешеные воды боятся. А этот - нет. Пьет за милу душу.
- Здоровый какой.
- Большой, да. Породистый, наверно.
- Куда он тебе, Фёдор?
- Так ведь не оставлять же в лесу...
Пёс болел долго. До самого снега выхаживал его Фёдор Иванович, человеческими лекарствами пичкал, молоком отпаивал, кашами да макаронами откармливал - себе так никогда не готовил, как этому псу.
- Оклемается, будет мое хозяйство сторожить.
- Да что у тебя сторожить-то?
- А вон хоть телевизор, - смеялся Фёдор Иванович, а сам о горшке с деньгами думал. - Да и не так скучно будет с животиной-то... Ты гляди, гляди на него. Мы говорим, а он ушами шевелит - прислушивается. Понимает, что про него. Ай да жук!
Так и привязалась к собаке новая кличка.
Крепко сдружились Фёдор Иванович с кобелем-найденышем. Всюду вместе ходили, как привязанные - за водой ли, за дровами, в гости ли к кому. Но не все пускали в дом здоровенного пса. Бабка Тамара, что жила напротив, и вовсе собаку невзлюбила, ворчала при встрече:
- Экий чёрт поселился под боком!
Жук, чуя ее недовольство, поджимал хвост, прятался за хозяина.
- Не обижай животину, Тамара, - сердился Фёдор Иванович.
- Гляди лучше, как бы нас твоя животина не обидела...
Впрочем, прошло не так много времени, и бабка Тамара к собаке подобрела. Случилось это после того, как Жук поймал на хозяйском дворе лисицу, что душила кур во всей деревне.
- Экий чертяка! - строго говорила теперь соседка, встретив Фёдора Ивановича с верным четвероногим спутником, и лезла в карман за лимонной карамелькой. Пёс конфеты не любил, но сладкие подношения бабки Тамары принимал - и хрумкал, пуская слюну на снег, и с осторожной благодарностью посматривал на суровую старуху.
В январе месяце Жук поймал разбойничающего хорька.
В начале февраля разорил гнездо ласки.
А уж сколько крыс передушил - несчитано!
К Фёдору Ивановичу зачастили гости с одной только просьбой:
- Ты Жука своего пустил бы к нам во двор на ночку. А то крыс нынче - страх Божий сколько...
В тихие лунные ночи, до треска морозные, в далеком лесу раздавался вой. Спящий возле печи Жук, заслышав отголоски леденящих волчьих песен, поднимал тяжелую голову, настораживал уши, скалил клыки и тихо ворчал. Шерсть на его загривке вставала дыбом. Фёдор Иванович просыпался, приподнимался на локте и щелкал рычажком ночника.
- Ну чего ты шумишь? - тихо спрашивал он у пса. И сам прислушивался к далекому вою, качал головой.
Красноватый свет ночника напоминал ему свечение горящей лучины, и казалось Фёдору, что перенесся он в свое детство, во времена, когда оголодавшие за зиму волки подходили близко к деревне, и в каждом доме было ружье, а мужики старались не ездить по-одиночке, всегда собирались в город большим обозом, вооружались, брали с собой факелы...
“...баю-баюшки-баю, не ложися на краю...”
Чудился ему матушкин голос, и скрип колыбели, подвешенной на крюке к потолочной балке. И делалось ему страшно.
Сорок лет не было тут волков.
А вот надо же - вернулись.
“...придет серенький волчок, и укусит за бочок...”
- Спи, - хрипло говорил Фёдор. - Сюда они никак не доберутся.
А сам думал: ой, доберутся! дай только время...
Дюжина жилых дворов, но ружья нет ни в одном...
Утром Фёдор Иванович долго одевался, подвязывал к поясу тяжелый острый тесак в войлочных ножнах; пригладив волосы, нахлобучивал на голову облезлый, давно потерявший форму треух, надевал на валенки широкие лыжи и, подперев дверь палочкой, отправлялся в перелески за материалом. Чёрный Жук скакал рядом, хватая горячей розовой пастью искрящийся снег. Фёдор Иванович смотрел на него и думал, что собаку держать хорошо - и веселей с ней, радостней, и на душе спокойней.
Зима кончилась только в апреле - и вроде бы, в одну ночь. Вечером еще вьюга мела, а утром, глядь - отяжелевший снег просел, бревенчатые стены изб потемнели от влаги, мелкая серая морось укрыла далекий лес.
Фёдор Иванович проснулся больным - ненастье ломило кости. Он долго возился, не желая выбираться из-под ватного одеяла, но потихоньку заползающий в постель холод заставил его подняться. Он накинул на плечи фуфайку, сунул ноги в размятые валенки, вкусно зевнул - и обмер.
Между печью и диваном, там, где Жук частенько складывал свою добычу, лежало нечто темное, похожее на изломанное тельце ребенка.
Фёдор Иванович охнул.
Чёрный кобель Жук поднял голову и приветливо замахал хвостом.
- Что ж ты наделал? - застонал Фёдор Иванович. И осекся, спохватившись.
Откуда бы здесь, в глухой деревне, еще и в эту пору, взяться ребенку? Тем более, такому маленькому. Да и дом-то был заперт. Разве только на двор мог выйти Жук, недавно научившийся открывать двери лапой. На двор - но никак не на улицу.
Или же?..
- Откуда ты это приволок?
Пёс, по хозяйскому голосу чуя неладное, вжался в пол.
- Кто это?..
Нет, не ребёнок. Но, вроде бы, и не зверь.
Долго приглядывался Фёдор Иванович к задушенному кобелём созданию, не решаясь тронуть его ни рукой, ни ножом. Потом оделся, выбежал из избы. Вернулся через пять минут, таща за собой хмурого соседа.
- Вон, сам погляди, Семёныч.
С двух сторон подошли они к маленькому тельцу. Нависли над ним.
- Будто обезьяна какая, - неуверенно сказал сосед.
- Откуда у нас обезьяна! - возмутился Фёдор Иванович.
Сосед пожал плечами. Спросил, осторожничая:
- А точно оно дохлое?
- Не знаю...
В это утро дом Фёдора Ивановича посетила вся деревня. Жук, не выдержав шумного внимания, сбежал на улицу, спрятался под крыльцом. Последней пришла бабка Тамара, закутанное в черное. Она только глянула на лежащий трупик, и тут же заявила:
- Домовой это.
- Чего? - удивился Фёдор Иванович.
- Того! - передразнила его соседка. - Домовой. Хозяин дома. Не слышал, что ли, никогда?
Фёдор Иванович про домовых, конечно же, слышал. Но так же доводилось ему слушать речи заезжих лекторов о вреде разных предрассудков.
- Дык! - сказал он коротко, не зная, что ответить Тамаре. И развел руками.
- Хозяин, - закивала бабка. - Точно говорю. В Минчакове, слышал, дурачок один с куриными потрохами всё возился, да и выносил под мышкой выродка? Похож был на этого, твоего. - Тамара показала на маленькое мохнатое тельце. - Придушил его твой кобель, не зря у него круги под глазами.
- И чего теперь? - окончательно растерялся Фёдор Иванович.
- А ничего... Живи себе. Может, только по хозяйству теперь что не заладится. Хозяин он ведь и приставлен для того, чтоб за домом следить.
Тамара ушла, и Фёдор Иванович, побродив чуть по избе, скрутил из газеты папироску и вышел на улицу подышать влажным весенним воздухом.
Когда он спускался с крыльца, под его ногой с хрустом проломилась ступенька.
После того дня жизнь у Фёдора Ивановича ладиться перестала. Всё пошло наперекосяк. Холодная талая вода залила подпол - хотя все годы раньше едва наполняла специально выкопанную яму в дальнем углу. То ли из-за подтопления, то ли по какой другой причине изба заметно скособочилась - ее северный угол приподнялся, а между задней стеной и крышей двора образовался заметный промежуток. Под тяжестью намокшей соломы переломились жерди сеновала. Развалилась простоявшая всю зиму поленница. Лопнуло и выпало стекло в переднем окне. Треснула печка. Крыльцо, еще недавно казавшееся прочным, теперь шаталось и надрывно скрипело.
Фёдору Ивановичу стало не до плетения. Он вычерпывал из подпола прибывающую воду, вытаскивал сушиться капусту и семенную картошку, абы как замазывал расходящуюся трещину в печном боку, подстукивал, подделывал крылечко, латал крышу. И с горечью думал, что, видно, придется ему залезть в горшок, в котором когда-то жена хранила сметану.
Помимо неприятностей крупных, случались неприятности мелкие: то умывальник подтекать начнет, то с полки тарелка скатится, то электрическая лампочка взорвется, а у старого выключателя пластмассовый язычок отвалится. Полинявшие куры принялись клевать яйца, да и нестись они стали не в корзинах-гнездах, как положено, а в таких местах, куда без лестницы не добраться.
- Да что ж такое-то! - озабоченно жаловался Фёдор Иванович соседям, а если их рядом не было, то черному кобелю. - Прямо напасть какая-то!
- Это потому, что хозяина в доме нет, - говорила ему бабка Тамара.
- Я хозяин! - сердился Фёдор Иванович.
- Ну вот и хозяйничай, - ехидно усмехалась соседка.
Два месяца терпел Фёдор Иванович такую нескладную жизнь, но после того, как в чулане сорвалась со своего вечного места дубовая полка, острым крошевом разбрызгав по полу много лет собираемые стеклянные банки, - не выдержал. Выругался и пошел к Тамаре за советом.
Соседка встретила его хмуро, но за стол усадила и чаю налила. Долго слушала жалобы Фёдора, молчала, макала в чашку сухую баранку, сосала беззубым ртом.
- Уж не знаю, что и делать теперь. Кто бы другой рассказал - ни в жизть бы не поверил. А тут... Сам же... Может, ты посоветуешь чего, Тамара?
- Может и посоветую.
- Ну?
- Перевези-ка ты, Фёдор, к себе другого хозяина.
- А где ж его взять, другого-то? Да и как перевезти?
- Как - я тебе точно не скажу. Мать моя знала, а я уж нужных слов не помню. Но, думаю, что и простыми словами обойтись можно. А сделай ты так...
На берегу зарастающего камышом пруда, увязнув в земле почти по самые окна, стояла перекошенная избёнка с провалившейся возле печной трубы крышей. Десять лет назад домик этот еще был обитаем, жила здесь тихая богобоязненная Маша Захарова. Годы ее никто не считал, но все знали, что девкой служила она в доме Глеба Максимилиановича Кржижановского. Старушка мало что помнила из того времени, но любила рассказывать, как жена политического деятеля ласково именовала видного мужа своего “Глибасенькой”.
После случившейся перестройки Маша Захарова стала сильно хворать. А однажды слегла - и уже не поднялась. Приехавшие родственники вывезли ее из деревни и устроили в какую-то богадельню. Где сейчас Маша, жива ли - об этом в Оленине не знал никто.
Дом же верно стоял, будто ждал возвращения хозяйки.
Именно к нему и направился Фёдор Иванович после разговора с Тамарой. В правой руке он держал веник-голик, в левой - кусок белого хлеба, смоченного в козьем молоке.
Замка на входной двери не было. Сквозь вбитую в косяк скобу и дверную ручку была продета ржавая цепь. Двойной железный узел не сразу поддался усилиям Фёдора Ивановича. Еще больше времени потребовалось, чтобы сдвинуть вросшую в землю дверь.
Боком, пачкая одежду о гнилое закисшее дерево, протиснулся Фёдор Иванович в узкую щель. Крохотная прихожая встретила его тяжелым запахом нежилого. Сквозь запыленную, облепленную паутиной полоску стекла едва пробивался дневной свет. На узком столе стояла замызганная керосинка, рядом лежала перевернутая чугунная сковорода.
Фёдор Иванович тяжело вздохнул, чувствуя, как к горлу поднимается горький ком.
Он хорошо помнил хозяйку. Сам порой на этой керосинке кипятил чайник. Ел яичницу из этой сковороды. И слушал неспешные рассказы одинокой Маши Захаровой, тихой старушки, повидавшей в нескладной своей жизни такие виды, что не каждый мужик смог бы вынести.
Дверь, ведущая в дом, подалась неожиданно легко - даже не скрипнула. Фёдор Иванович пригнулся, осторожно перешагнул высокий порог и тут же встал, не решаясь проходить дальше. Он боялся наследить в комнате, умом понимая, однако, что ничего страшного в том не будет. Хозяйке давно безразлично, кто ходит по её дому, не будет она ни ворчать, ни ругаться, и никто потом не наклонится, чтобы смыть грязные следы с пола...
Вот это-то и смущало Фёдора Ивановича. То обстоятельство, что следы его сапог останутся здесь на долгие годы, если даже не десятилетия, странным образом пугало его. Да и вся ситуация была ему неприятна: в этом доме он чувствовал себя подобно мальчишке, оказавшемся вечером на кладбище.
Было тихо, мёртво и сумрачно.
Сбитый половик лежал точно так, как и десять лет назад. На обитом клеенкой столе покоилась кружка: когда-то в ней остался чай, потом он заплесневел, высох, превратился в бурую пыль.
Мутное зеркало в тяжелой раме смотрело на дверь.
На спинке стула висел завязанный узлом платок.
На засыпанном мухами подоконнике остались очки с толстыми стеклами и дужками, обмотанными изолентой.
Огромный комод, мечта каждой хозяйки, хранил в деревянной утробе никому не нужные письма и фотографии.
Вставшие ходики опустили гирю-шишку до самого пола.
Гобелен с тремя богатырями...
Наполовину оборванный календарь-численник...
Хмурые иконы за чёрной лампадкой...
Фёдор Иванович еще раз вздохнул, шмыгнул носом и сделал маленький шажок вперёд. Опустившись на корточки, он положил перед собой веник, сунул в прутья размокший хлеб, закрыл глаза и жалобно, пугаясь своего голоса, затянул:
- Батюшко, хозяюшко, пойдем со мной. Залезай на веник, отведай угощения, отнесу тебя ко мне жить...
Он не знал, долго ли надо уговаривать домового, а потому изобретённый бабкой Тамарой заговор повторил раз десять. Затем выждал несколько минут, напряженно вслушиваясь к глухую тишину пустого дома, и открыл глаза.
Ничего не изменилось.
Голик лежал, как и прежде.
Разве только...
Фёдор Иванович помотал головой.
Нет же... Не может быть...
Он обеими руками осторожно поднял веник, прижал его к груди, словно ребёнка и, пятясь, покинул комнату.
Ему казалось, что голик стал заметно тяжелей.
И он пытался уверить себя, что это ему просто чудится.
Как и хлебные крошки возле его ног.
Как и дорожка едва заметных следов, идущих от печи к половику.
“Померещилось”, - проговаривал про себя Фёдор Иванович, выбегая на улицу. Ему не хватало воздуха, он пучил глаза и задыхался.
- Померещилось, - убеждал он потом Тамару и соседа Геннадия.
- Померещилось, - говорил он Жуку и дрожащей ладонью гладил пса по жесткому загривку.
С мая месяца Жук находился на привязи. Фёдор Иванович сколотил ему конуру за крыльцом, набил в нее соломы, приделал сбоку консервную банку для воды; вдоль стены до самого забора протянул стальную проволоку. Металлическое кольцо с привязанным поводком легко по ней скользило, и у пса было куда больше свободы, чем у прочих цепных псов. Но Жук этого не понимал и не ценил. Первые несколько дней он ожесточённо рвался с привязи - должно быть, поводок и ошейник напоминали ему страшное время, проведённое в лесу. Потом пёс несколько присмирел. Но Фёдор Иванович чувствовал, что Жук стал относиться к нему с некоторой недоуменной обидой.
Фёдор Иванович чувствовал свою вину, и потому рядом с конурой он из двух чурбаков и доски соорудил скамейку. Значительную часть времени он теперь проводил здесь. Сидел, обув подшитые резиной валенки, дымил пожеванной сигаркой, занимался корзинным делом и неспешно беседовал с кобелём:
- Через два дня Володька приедет, а у нас ничем ничего. Надо бы еще хоть пяток лукошек сделать - считай, лишних десять рублей, а то и пятнадцать... Дуешься, чай, всё еще? А ты не дуйся. Собака в дому жить не должна. Это тебе не квартира, сам понимаешь. А что раньше-то дома держал? Дык, больной ты был. Да и зима была, вспомни-ка. А вот теперь - благодать. И погода хороша, да и ты вона как окреп, залоснился... Побаловать тебя, что ли? Ишь, замахал хвостом. Всё понимаешь! - Фёдор Иванович подмигивал немому четырехлапому собеседнику, грозил ему пальцем. - Ладно, ладно, закажу Володьке, пусть в следующий раз привезет этот... как его?.. Педи Гри. От ведь название придумали, черти!..
Иногда Фёдор Иванович брал Жука с собой в лес. Через деревню он вёл пса на поводке, отвязывал только за околицей. Соседи теперь побаивались кобеля, ворчали, советовали Фёдору от него избавиться.
- Не дай Бог, притащит еще чего похуже. Без милиции не обойдется. Сядешь ведь!
- Нет такой статьи, чтоб за домового садиться, - сердился Фёдор. И сам дивился чудному разговору. Виданное ли дело, из-за какой-то сказочной нечисти с соседями ругаться!
Оказавшийся на воле Жук словно дурел. Носился по полям с восторженным лаем, валялся в траве, гонялся за птицами, азартно мышковал. Фёдор Иванович смотрел на проказы кобеля с широкой улыбкой, науськивал лохматого спутника на кусты, и громко смеялся над его недоумением.
Жизнь наладилась - новый ли домовой, принесенный на венике, был тому причиной, или просто сама собой кончилась полоса неудач - неясно. Тем не менее, подновлённый дом больше не рушился, посуда не билась, не лопались стёкла, а работалось споро и ладно.
- Ты думаешь, я тут корзинки плету? - обращался к кобелю Фёдор Иванович. - Нет, брат. Это я себе гроб делаю. Жёнка-то моя, Анна Васильевна, знаешь ли где лежит? За сто километров отсюда. В городе. Нехорошо это, что она там, я вот тут, но что уж поделать. Вот помру, и, коли денег хватит, рядом с ней лягу. Тут-то у нас что, тут всё просто: помер ты, в гроб из пяти досок тебя положили, закопали, крест поставили. А там нет, там всякому человеку денежка нужна. За место, за памятник, за работу... По-божески лечь хочу. Наш-то погост былинником да крапивой весь порос, никому до него дела нет. Через двадцать лет от него, чай, и следа никакого не останется. А там, в городе, не так. Там люди специальные к кладбищу приставлены, они за могилками следят, дорожки чистят...
Пёс, заслушавшись, зевал. Сворачивался калачом, щелкал в шерсти зубами, теребил задней лапой вислое ухо.
Фёдор Иванович умолкал, улыбался грустно и откладывал в сторону очередное свое изделие.
С привязи Жук сорвался ночью. И, одурев от свободы, пропал на три дня.
Фёдор Иванович места себе не находил. При свете бродил по ближайшим лесам, высвистывая кобеля, домой возвращался в сумерках, ночь не спал, дремал едва-едва, приходя в себя от малейшего шума.
- А и к лучшему, что так вышло, - успокаивала его бабка Тамара. - Теперь уж, чай, не вернется. Волки, поди, задрали.
Фёдор Иванович сердито цыкал на нее.
- Не каркай! Набегается - воротится, - говорил он. И сам себе не верил.
Но утром четвертого дня Фёдора Ивановича разбудило знакомое тихое скуление. Разом очнувшись, он приподнялся на локте, глянул в сторону печи.
- Ах ты, чёрт! - вырвалось у него. - Вернулся! Пришел!
Жук, как ни в чем не бывало, лежал на своем обычном месте. Услышав голос хозяина, кобель весело тявкнул и застучал по полу грязным хвостом.
- Как ты в дом-то пробрался? Со двора, что ли? Голодный, небось. Набегался, нагулялся. Уж не в Коворчино-ли бегал к сучке какой? Эх, дело молодое. Я в твои-то годы и сам за десять вёрст на танцы ходил...
Фёдор Иванович, натужно кашляя и бормоча что-то про бедовую молодость, спустил ноги на пол, нащупал босыми ступнями потертые валенки, посидел чуть, щипая себя за редкую бороденку.
И только потом заметил, что за снопом ивовых прутьев между печью и диваном лежат рядком три жуткие тушки.
От кобеля нужно избавиться - так решила вся деревня. Сроку на это отвели два дня.
- Да куда ж я его дену? - жалобно вопрошал Фёдор Иванович у явившихся парламентеров.
- Отдай Володьке Топорову, - велела бабка Тамара.
- Да не возьмет он.
- Пусть отвезет куда подальше, и у дороги привяжет. Может, кто подберет...
Жалко было Фёдору Ивановичу пса. До слёз жалко, до надрыва в горле. Но понимал он, что не стоит против соседей идти. Да и сам видел, что нельзя такого пса в деревне держать. Вон, у бабки Комарихи утром из подтопка горящую бумагу выдуло, да прямо на бересту и сухие поленья. Хорошо вёдра были воды полны, не дали пожару разойтись, только пол перед печью выгорел. А у Ивана Орлова аккурат в обед самогонный аппарат взорвался. Пятнадцать лет исправно работал - а тут вдруг лопнул, да так, что железный осколок в потолок воткнулся.
Вот и ясно теперь, у кого побывал чёрный кобель, чей дом без хозяина оставил.
Что тут говорить - у самого Фёдора нынче вдруг полка с посудой рухнула.
Три дома - три тушки. Всё сходится.
- А если не можешь, давай я с Володькой поговорю, - чуть мягче проговорила Тамара.
- Не надо. Я сам...
Долго думал Фёдор Иванович, что ему с Жуком делать. В лесу на верную гибель оставлять не хотелось. Травить - тем более. Если просто отвезти куда подальше, да выпустить... А ну как найдет дорогу назад?
- Был бы ты котом, - выговаривал Фёдор Иванович присмиревшему Жуку, - отвез бы я тебя на ферму. Там и молоко, и мыши. Прожил бы как-нибудь.
Пёс смиренно смотрел на хозяина, шевелил бугорками над умными глазами, тихо улыбался зубастой пастью.
А может, всё же, оставить его? - смятенно думал Фёдор Иванович. - Спрятать, пока всё не успокоится. Потом сказать, что вернулся он...
Нет, нельзя.
Шила в мешке не утаишь.
А ну как подкинет кто отравленный кусок? Илюха Самойлов может. Отчаянный.
Или капканов кто понаставит?
Не будет тут кобелю житья.
Надо с ним что-то делать...
Володька Топоров приехал в понедельник, запятил побитую Ниву к самому крыльцу.
- Не ждешь, что ли? - крикнул из кабины, отрывисто сигналя.
- Жду, - выглянув из окна, крикнул в ответ Фёдор Иванович. - Как же...
Они оба вышли на улицу, пожали друг другу руки. Работы было немного - они быстро перетаскали из дома все корзины, загрузили их в прицеп. Бестолковые цветочные вазы, раскрашенные чернилами, Володька устроил на заднем сиденье. Шкатулки и сундучки разместил в багажнике.
Фёдор Иванович помогал ему, а сам всё никак не мог решить, стоит ли заводить разговор о судьбе привязанного в доме Жука.
- Что-то ты, дядя Фёдор, невеселый сегодня. - Володька достал кошелёк. - Случилось чего?
- Да так, - пожал плечами Фёдор Иванович.
- Чего? Говори. Может, помогу.
- А! - Фёдор Иванович махнул рукой. - Умывальник сегодня разбился. И крыльцо вон опять гнить начало. Прямо напасть какая.
- Понятное дело. Старый уж дом-то.
- Старый, не старый... - Фёдор Иванович вздохнул, оглянулся на окна Тамариной избы. И, решившись, затараторил:
- Ты бы, Володька, взял бы у меня, что ли, пса. Не нужен он мне, в тягость. А у тебя при деле бы был. Дом бы сторожил.
- Не, не выйдет. У меня жена собак боится. Да и я их не люблю.
- А зря, зря. Хороший кобель, умный.
- Даже не уговаривай, дядя Фёдор. Без толку.
- Ну, может, знакомым кому отдашь?
- Да кому он нужен? Сам посуди - если человеку собака нужна, он лучше щеночка возьмет. А тут - такой чёрт здоровый.
- Хоть куда бы его, а?
- На живодерню, разве что, - хмыкнул Володька. И испугался, увидев, как перекосилось лицо Фёдора Ивановича. - Ты чего это? Пошутил я, пошутил. А ты правда, что ли, избавиться от него хочешь?
- Не хочу. Надо.
- Как же это понимать?
- А лучше не спрашивай, - горько сказал Фёдор Иванович. - Увез бы ты его, что ли, подальше куда-нибудь.
- Чего он натворил-то? - тихо спросил Володька.
Фёдор Иванович только рукой махнул.
- Увези, христом-богом прошу. Где-нибудь у дороги привяжи на виду. Может, кто пожалеет, подберет.
- Ну... ладно... Не покусает он меня?
- Нет, он ласковый, - едва слышно сказал Фёдор Иванович и вдруг, резко отвернувшись, дёрнул плечом.
- Ты чего это, дядя Фёдор?
- Увози нахрен! - зарычал старик.
- Ладно... Ладно... Но ты... Это... Не реви только...
Фёдор Иванович задергался, забулькал горлом, медленно опустился на землю и, привалившись спиной к грязному колесу Нивы, обхватил голову руками.
- Ты вот, это, деньги, на, возьми, - сбивчиво проговорил растерявшийся Володька, поспешно доставая из бумажника новенькую сотню и пытаясь всучить ее старику.
- Не... - прохрипел Фёдор Иванович. - Не надо... Ты... Купи ему... Этот.. Как его... Педи Гри... Побалуй... Напоследок...
Два дня терзался Фёдор Иванович, не знал, куда себя деть. А поздним вечером второго дня не выдержал - увязал в платок две печёные картофелины, оставшиеся от прошлого ужина, помидор, впопыхах сваренное яйцо да черствую краюху ржаного хлеба. Основательно оделся, на фланелевые портянки обул кирзовые сапоги, прихватил спички, тесак в войлочных ножнах - и вышел из дома.
Первым делом направился к Тамаре.
- Ты куда это на ночь глядя собрался? - удивилась та.
- Что хотите со мной делайте, а Жука я в обиду не дам! - отчаянно проговорил Фёдор Иванович и притопнул подкованным каблуком.
Долго молчала бабка Тамара, разглядывая позднего гостя, вставшего на пороге. Качала головой. Наконец, проговорила тихо и, вроде бы, с пониманием:
- За ним, значит, отправился?
- Пойду искать, - кивнул Фёдор Иванович. - Предупредить вот зашел, а то хватитесь - а меня нету... Курам раз в день кинь зерна из бочки.
- Ладно. Кину... И куда отправишься?
- По дороге.
- Далеко?
- Не знаю пока.
- Ну, ладно... - Тамара тяжело поднялась с табурета, выдвинула ящик стола, одним широким движением сгребла в него разложенные по столешнице письма и почтовые карточки. Сказала:
- Погоди.
И ушла за занавеску в маленькую комнату, откуда громко - на весь дом - щелкал поношенным механизмом старый будильник, пытающийся поспеть за стремительными мгновениями. Вернулась хозяйка минут через пять, вручила Фёдору яркий, оранжево-синий рюкзак.
- Вот, возьми. Внук оставил. Там я тебе молока положила бутылку, и десяток блинов. Съешь по дороге.
- Спасибо, - поблагодарил Фёдор Иванович.
- А, может, всё же, подождешь до утра? Не дело - в ночь уходить.
- Не могу. Так легше.
- Ну, смотри. Голова на плечах своя есть.
- То-то и оно, - сказал Фёдор Иванович. Он закинул рюкзак за спину, развернулся на каблуках, открыл дверь, перешагнул порог - и остановился. Медленно повернув голову, он колюче глянул на Тамару и со значением повторил:
- То-то и оно.
Под открытым небом идти было не страшно. Ярко светила луна, мерцали разбрызганные по высокой тьме звезды; было тихо и сонно. А вот когда начался лес, чёрный и затаившийся, Фёдору Ивановичу сделалось не по себе. Он достал тесак - но спокойней от этого ему не стало. Он подумал, что сейчас не помешал бы фонарь. И тут же решил, что от прыгающего по земле желтого пятна не было бы никакого проку.
Во тьме, окружившей дорогу, кто-то жил. Там ворочались и вздыхали. Охали и постанывали. Скрипели и потрескивали. Сомкнувшиеся деревья норовили зацепить раздражающе яркий рюкзак, сдернуть его с плеч человека. Смутные фигуры выдвигались из мглы и недвижимыми призраками вставали в шаге от обочины. Прямо по звездам скользили беззвучные крылатые тени. Порой вниз заглядывала седая луна, и тогда лес менялся чудовищным образом: уродливые тени полосовали дорогу, каждая выбоинка заполнялось густой тьмой, березовые стволы начинали сливочно блестеть, а плотная стена сомкнувшихся деревьев раскалывалась, обнажая прежде невидимое, тяжёлое и мрачное...
Долго шёл Фёдор Иванович, неосознанно тая дыхание и борясь с одолевающими страхами. Крепко сжимал горячую рукоять ножа. Заставлял себя шагать широко и размеренно, гнал прочь пугающие мысли, убеждал не верить в обманчивых призраков, знал, что фигуры вставшие вдоль дороги - обычные коряги, да потрепанные кусты, что тихие тени, скользящие на фоне звёзд - совы и летучие мыши.
Но потом он увидел такое, что в голове будто колокол лязгнул - и раскололся на сотни тяжелых острых кусочков, а сжавшееся сердце тут же оборвалось и провалилось в живот, затрепыхалось там, запрыгало, забилось.
По лесной дороге, по колышущимся теням, ритмично подпрыгивая, бежала навстречу жуткая четырёхногая тварь с несоразмерно большой бесформенной головой.
Фёдор Иванович сдавленно охнул, выставил перед собой тесак и стал медленно оседать, чувствуя странную пустоту в голове.
Ему привиделось, будто он дома лежит на неудобном диване; рука его свесилась до холодного пола, и пальцы его лижет шершавым горячим языком чёрный пёс Жук.
Фёдор Иванович чмокнул губами и очнулся.
Он лежал на земле. В правый бок упиралось что-то твердое. Сквозь сплетенные ажурные кроны проглядывали звезды.
Он был в лесу. На дороге, а не на диване.
Но горячий язык по-прежнему лизал его руку.
- Жук?
Кобель знакомо тявкнул, и Фёдор Иванович перевернулся.
- Жук!
Пёс вскочил, скакнул в одну сторону, потом в другую, припал к земле, вращая хвостом. Он решил, что хозяин затеял с ним игру.
- Ах ты, чёрт поганый! Ты ж меня, зараза, чуть на тот свет не отправил! Я уж даже... А... Как... - Фёдор Иванович задохнулся, заперхал в кулак. Откашлявшись, отдышавшись, вытер ладонь о штаны, подобрал тесак, убрал его в ножны. Сел, качая головой, приговаривая растерянно:
- Ах ты, зараза такая... Как же, а?.. Как же...
Пес, увидев, что игры не выходит, успокоился, подошел ближе. Ткнулся головой в колени хозяина, будто прощения за что-то вымаливая.
- Ну чего, чего?.. Эх, ты, кобелина здоровая... - Фёдор Иванович шмыгнул носом, обхватил Жука за шею, нащупал обрывок веревки, почувствовал под руками кровь. - Нельзя было так... Не по-человечески это... Эх! - Он прижался к кобелю, погладил его по хребту, почесал бок. - Давай срежу удавку твою... Погоди... Щас... Да стой ты спокойно!..
Потом они долго сидели на пустой дороге. Если блины и намоченный молоком хлеб, жевали картошку и рассказывали друг другу о случившемся с ними - каждый на свой лад, на своем языке.
Их окружала живая чёрная чаща. В ней кто-то ворочался и вздыхал, охал и постанывал. Из мглы выступали неясные фигуры и вставали в нескольких шагах от обочины, по тлеющим звездам скользили крылатые тихие тени, - но Фёдора Ивановича теперь ничто не пугало.
А когда они собрались и двинулись в обратный путь, то Фёдор Иванович понял, почему при встрече пёс показался ему таким страшным.
Невесть из какой дали Жук тащил в пасти очередную свою добычу.
И, судя по всему, бросать ее он не собирался.
Так это кикимора, - сказала Тамара, только глянув в сторону лежащей на полу тушки.
- Да ну! - не поверил Фёдор Иванович.
- А кто это еще может быть? Сам посуди: волосы зеленые, морда с кулачок, перепонки, будто у гуся. Как пить дать - кикимора!..
Жук лежал на своем обычном месте возле печи. Он улыбался, как умеют улыбаться одни только собаки, и постукивал грязным хвостом по половицам.
- И что это за пёс у тебя такой? - пробормотала Тамара, строго посмотрев на развалившегося кобеля.
Жук показал ей розовый язык и протяжно зевнул.
На улице светало. Со дворов неслась петушиная перекличка. У колодца звенели вёдра, принимая студеную воду; глухо гремела колодезная цепь, и отрывисто взвизгивал несмазанный ворот.
Фёдор Иванович прикрыл задушенную кикимору картофельным мешком и объявил:
- Что хотите со мной делайте, но Жука я оставлю. Присматривать буду, забор подлатаю, за калитку одного не пущу - но и выгонять не стану.
- Я уж так и поняла, - сказала бабка Тамара. - Но как ты без хозяина-то будешь? Сам жаловался, что тяжело.
- Ты про домового, что ли? Так я всё придумал. Вон вокруг изб сколько брошенных, и у нас тут, и в Никулкине, и в Ширяеве. Возьму веник, как ты меня научила, принесу себе нового домовика. А коли опять не услежу за Жуком, так и еще одного к себе перетащу. Изб пустых много, на мой век хватит.
- А не жалко?
- Кого? Домовых? Может и жалко. Да только, сама посуди, смерть им при любом раскладе выходит. Ну сколько еще дома эти простоят? На глазах же гниют, хиреют, разваливаются.
- Может и прав ты, - тихо сказала Тамара. - У самой сердце кровью обливается, когда на избы такие гляжу. А уж хозяину-то каково там одному - страшно подумать...
- Кончается их век, Тамара, - сказал Фёдор Иванович. - Да и наш тоже. Знаешь ведь, я здесь не корзинки плету. Это я гроб себе делаю...
Вскипел чайник, и он сели за стол. Фёдор Иванович достал пряники и ванильные сухари. Бабка Тамара вынула из кармана пакетик с карамелью в липких бумажных обертках.
За чаепитием они почти не разговаривали. Им и без того было хорошо.
Разбуженное рукой хозяина радио бормотало о новой правительственной программе. Под окном возились куры. За изгородью от ударов колуна с треском рвались осиновые чурбаки - отчаянный Илюха Самойлов колол дрова для бани.
- А я вот всё думаю, купил ли Володька ему Педи Гри, - задумчиво пробормотал Фёдор Иванович.
Тамара не поняла, о чем это он, но переспрашивать не стала. Она прихлебнула горячего чаю, пососала пряник, и просительно сказала:
- Может, уступишь мне завтра Жука?
Фёдор Иванович недоуменно посмотрел на гостью. И та, смущенно пожав плечами, пояснила:
- Боязно стало в баню ходить. Прошлый раз мылась, стала воду из котла черпать - и вдруг словно кто-то приобнял со спины. Закричала, заругалась, поворотилась - пусто... С Жуком мне спокойней было бы.
- Бери, конечно.
- Вот спасибо...
После того, как Тамара ушла, Фёдор Иванович еще долго сидел за столом. Он прихлебывал из железной кружки остывший чай, вяло грыз сухари, и о чем-то усиленно думал. Минут через сорок он хлопнул себя по коленям и резко поднялся, выдохнув:
- Надо работать!
Он принес с кухни острую финку, выточенную знакомым зэком-химиком из автомобильной рессоры. Достал с полатей кусок брезента, расстелил его на полу. Выкатил из угла на середину комнаты посеченный тесаком чурбан, воткнул в него нож. Налил в таз воды.
И, чуть помедлив, сдернул с мёртвой кикиморы пыльный мешок.
Бабье лето закончилось. Со стороны озера дул холодный, до костей пробирающий ветер, а потому Зина Топорова с обычного места переместилась ближе к монастырским стенам. На фанерных столах с дюралевыми ножками она в обычном порядке разложила весь свой товар: крохотные корзинки, аккуратные плетеные шкатулки, связанные попарно лапоточки, берестяные туески, ивовые кашпо, подносы, вазы.
- Едут! - объявила Ирка Самойлова, торгующая глиняными фигурными свистульками и фарфоровыми колокольчиками. Она подула в иззябшие ладони, посмотрела на часы и добавила:
- Опаздывают сегодня что-то.
Зина обернулась.
По вымощенной булыжником улице, мимо старых двухэтажных особнячков, облупленных и неказистых, мимо оголившихся лип и тополей, мимо замызганных чугунных ограждений и серых театральных тумб величественно катился огромный стеклянный автобус, похожий на сияющий изнутри аквариум.
- Еще два рейса должны быть, - сказала всезнающая Ольга Мастеркова, продающая иконки, расписанные под хохлому ложки и толстенные карандаши с изображением монастырской звонницы на боку. - Кончается сезон, девки. Скоро будем лапу сосать...
Автобус развернулся на площади перед монастырскими воротами. Зашипели двери, отползли вбок. Из прорехи вылились восторженные, нарядно одетые люди. Заголосили, защелкали фотоаппаратами, пугая ворон. Увидели разложенные на продажу сувениры, устремились к ним.
Зина Топорова похлопала себя по застывшим щекам, поправила платок и широко улыбнулась приближающимся клиентам.
- Гуд дей! - звонко сказала она. - Ай эм вери глэд си ю.
Иностранцы восхищенно загудели.
- Везет тебе, Зинка, - завистливо сказала Ирка Самойлова. - Научила бы меня, что ли, ихнему языку.
- Я пять лет в универе училась, - поверх толпы отозвалась Зина. И улыбнулась еще шире, торопясь продемонстрировать иностранным гостям как можно больше товара, с готовностью откликаясь на каждый вопрос, на каждый жест, на каждый взгляд.
За пятнадцать минут она продала шесть шкатулок, десять пар лаптей, две вазы, кашпо и корзинку с крышкой. Потом вал покупателей схлынул; обитатели колесного аквариума разбрелись по площади - они ждали, когда экскурсовод разрешит им войти в кованые ворота. Лишь один пожилой мужчина никак не мог оторваться от зининого лотка. Внимание его было приковано к трем фигуркам, стоящим на самом видном месте.
- Плиз, тейк, - разрешила Зина. И он тут же взял одну из фигурок, с восторженным удивлением покрутил, потискал, даже понюхал ее. Спросил, из чего это сделано, как называется, сколько стоит.
На первый вопрос Зина ответить не смогла. Откуда муж брал товар, она толком не знала.
А что касается названия...
- Итс рашн брауни, - уверенно сказала Зина. - До-мо-вой. Экслюзив. Спэшэл фо ю. Фотин долларс.
Иностранец помял набитого опилками домовёнка, не понимая, как можно было скроить такое чудо практически без швов, погладил пальцами густую шерсть, сказал международное “окей” и полез в карман за бумажником.
рассказ третий: Иван Иваныч
 |
Н
очью была буря, и старая гнилая липа, не выдержав натиска стихии, переломилась пополам и рухнула, накрыв покосившийся сруб колодца.
Досталось и другим деревьями - растущие вокруг пруда кряжистые вётлы разбросали по мелкой гнилой воде ободранные ветки, одичавшие яблони растеряли невызревшие еще яблоки, а растущая на пригорке сосна лишилась огромной лапы и сделалась жалкой, будто зверь-инвалид.
Но вот липа!..
Баба Маша вздохнула.
Липу эту посадил её старший брат Фёдор в тот день, когда уходил на фронт.
“Я тут у дедушки одного был, - негромко сообщил он, отведя сестренку в сторону. - Он мне всё и посоветовал. Я, значит, этой липе в корни свои волосы положил, и рубаху старую. Всё сделал, как дед велел. Теперь если со мной что случится, то дерево вам и покажет.”
Не верила школьница Маша в подобные глупости, суевериями их называла, но вскоре пришлось ей мнение своё переменить. Девятого июля в грозу ударила в деревце странная, тонкая, будто веревка, молния, оставила на стволе выжженный след. А через два месяца вернулся домой скорченный, почерневший лицом Фёдор. Прихрамывая, подошел он к липе, тронул рукой изуродованный ствол, сказал тихо: “А дед-то не наврал”.
И только Маша поняла, о чем это он.
Так и не оправилось после той грозы дерево. Росло, вроде бы, тянулось вверх, да ела его потихоньку чёрная нутряная гниль. Всю войну и еще двадцать лет после председательствовал в колхозе Фёдор, крепко тянул государственное хозяйство, никогда о болячках своих не вспоминал, не жаловался, только на липу посматривал, да на людях, посмеиваясь, жалел ее вслух.
Умер он как-то тихо, незаметно, - один в своей подслеповатой избёнке. И в день похорон, в августе месяце, липа вдруг сбросила всю листву и завернулась в невесть откуда взявшуюся густую серую паутину.
Через несколько лет она всё же оправилась, зазеленела кроной, и даже чёрный рубец немного затянулся. Может, потому, что Маша стала ей под корни закапывать свои волосы, а может по какой другой причине.
Уж не Иван Иванович ли тогда помог умирающему дереву?..
Качая головой, баба Маша обошла кругом накрытый липой колодец.
Что ж теперь делать? На ключ, что ли, за водой ходить? Далеко. Да и нечищеный он вот уж сколько лет. Затянулся, чай, грязью...
Подобрав оставленные на тропинке вёдра, баба Маша направилась к соседскому дому.
Утехово большой деревней не было никогда. В лучшие дни - до пожара - было здесь двенадцать дворов. Дети бегали учиться за шесть километров в Лазарцево: там помимо школы и сельмаг имелся, и клуб с библиотекой и бильярдом, и баня общественная.
Но вот надо же! Пришло время - сравнялись деревни: что в Утехове два дома осталось жилых, что в Лазарцеве. И будто отодвинулись они друг от друга, не шесть километров разделило их, а все шестьдесят. Прямая дорога заросла, брод через речку тиной затянулся, лес на прежние луга да на пашни выбрался. Раньше дети за час в один конец бегали. А старикам теперь чуть не весь день тащиться надо.
Вот и не ходит теперь никто из Утехова в Лазарцево. Надобности нет: магазин давно закрылся, баня сгорела, клуб на дрова разобрали. А весточку, коли захочется, можно и через Лёшку Иванцева передать, когда он из райцентра на своей “Ниве” прикатит, хлеб, чай, да сахар на продажу привезет - а заодно и проверит, не померли ли одинокие старухи, живы ли еще окруженные лесом деревни.
Соседка выглянула, стоило бабе Маше несильно стукнуть пальцем в оконное стекло.
- Видела, чего ночью-то было?
- А то как же! Боялась, что крышу сдует.
- Липу мою завалило. Прямо на колодец. Теперь не подойти.
- Ты погоди, я щас...
Створка окна стукнула, скрипнул шпингалет.
Баба Маша отвернулась, привалилась боком к бревенчатой стене. Прищурясь, из-под руки глянула на изувеченную сосну, горестно покачала головой.
Неспокойно ей было.
Ну как неспроста липа-то сломалась! Может, знак это?
Ох, не надо было волосы ей в корни подкапывать!..
Соседка вышла, кутаясь в серую шаль, опираясь на можжевеловую клюку:
- Пошли, поглядим, что ли, чего там за беда случилась. А я нынче из дома-то не выходила. Курей только выпустила со двора. Нездоровится мне что-то. Печку даже затопила - знобит.
- Так ведь, чай, не двадцать лет, - рассеяно ответила баба Маша.
Идти далеко не пришлось - колодец был рядом, за дровяным сараем, за гнилым остовом комбайна, за разросшейся сиренью.
- Вот, - сказала баба Маша, широко разводя руками. - Нам тут, Любаша, самим не управиться.
- Да-а, - протянула соседка, медленно обходя колодец и рухнувшую на него липу. - А, может, трактором её оттащить?
- Тогда совсем сруб развалится. Надо хотя бы сучья все поотрубать, но мы туда ведь и не подлезем... Не бабская это работа, Люба. Иван Иваныча надо звать.
- Ой, не знаю... - повела плечом баба Люба. - Не хочется мне его попусту тревожить.
- Опять ты заладила! Какое ж это попусту?! И так целое лето его не трогали! Дел-то, дел-то сколько уж накопилось: навоз надо выгрести, сено повалить, дров хоть сколько-нибудь припасти. Хватит, чай, нагулялся за лето. Осень на носу, картошку надо будет в подпол стаскивать. Или тоже всё сама собралась делать?
- Может и сама, - тихо сказала баба Люба. - Ты, Марья Петровна, не ругайся. Я ведь не просто так... Я ведь... Боюсь, не пойдет к нам больше Иван Иваныч.
- Это как это?
- А вот так... Последний раз по весне, помнишь, мы его звали? Он уже тогда недовольный был. Сердился.
- На что?
- На то, как встречаем его, как благодарим. Пироги ему приелись, блины надоели. Скучно ему у нас, вот что. Позовем его, он придет, глянет, что ничего не изменилось, развернется - только мы его и видели.
- Да как же это, - растерялась баба Маша. - Как же мы без мужика-то будем? Ты точно знаешь, что говоришь?
- А ты у него сама спроси.
- Смеешься? Или забыла, что я его мычание не разбираю?
- Говорю: уйдет он, если уже не ушел. Давно я его не встречала. Почитай, с мая месяца...
С Иван Иванычем баба Люба познакомилась давно - то ли еще при Сталине, то ли уже при Хрущеве. Она тогда обкашивала лесные полянки - заготавливала для козы сено. Дело это вроде бы было разрешенное, но молодуха Люба, как и прочие крестьяне, на всякий случай таилась. Окрестные луга сплошь были колхозные, то есть государственные, даже те, где трава сроду косы не знала. Попробуй там хоть краешек литовкой обкорнай - не поздоровиться. Потому селяне перестраховывались: утром - затемно - ходили с косами на неудобные лесные делянки, вечерами - в сумерках - носили беремем сухое сено.
Люба таилась вдвойне. Разные слухи шли о ней по округе, говорили, что травница она, знахарка то ли Божьим даром, то ли чёртовым проклятьем, - и она боялась, как бы разговоры эти не дошли до чужих людей.
А дар у нее действительно был: угадывала она в травах целебную силу, наитием чувствовала, какие хвори чем нужно лечить. За наукой к дедушке одному ходила - к тому самому, что когда-то посоветовал соседу Фёдору перед уходом на фронт липу возле дома посадить.
Много времени проводила Люба в лесах, ночевала порой в самой глуши, ничего не боясь. Наверное, Иван Иванович еще тогда ее заприметил. А вышел, когда она, поскользнувшись на кочке, сломала косу и ногу. Не сразу вышел - только под вечер, когда Люба уже голос потеряла и из сил выбилась. Подхватил ее Иван Иванович с земли, положил на плечо - и отнес на лесную опушку, откуда видны были крыши домов и растущая на пригорке разлапистая сосенка...
В избе было тепло, почти жарко. В подтопке гудел огонь, раскалив докрасна чугунную дверцу; в открытом поддувале ало светились кубики углей. О чем-то бубнило висящее над столом радио; звеня, билась об оконное стекло большая муха.
- Никак нам без мужика, - жалобно повторила баба Маша, разглаживая пальцами фантик от “Школьной” конфеты. - Ты бы уж придумала чего, а?
Баба Люба большим ножом с черным источенным лезвием щепала лучину для самовара.
- А что тут придумаешь?
- Поговорила бы с ним. Может, он сам чего путное скажет.
- Да чего он скажет?! - сердито отмахнулась ножом баба Люба. - Ты лучше думай, что нам с колодцем делать. Может, Лёшку Иванцева, как приедет, попросить помочь?
- На Лёшку никакой надёжи нет, ты будто не знаешь. Да и денег не напасёшься. Это раньше просто было, за всё можно было бутылкой самогонки расплатиться. А теперь дураков таких нет, теперь каждому деньги давай. Свой мужик нужен, настоящий, не шабашник какой-нибудь.
- Кончились мужики, Маша. Самим теперь надо жить. Как все.
- Вот ты заладила! Ладно, коли не хочешь, я сама позову. Дело-то нехитрое.
- Зазвать-то просто. А как ты его удерживать станешь?
- Да уж придумаю что-нибудь.
- Ну так и придумай сейчас.
Они замолчали.
Громко стрельнуло в печи полено; вновь, жужжа, забилось об стекло притихшая было муха; пропищали в радио сигналы точного времени.
- Страшно мне, Люба, - вздохнув, сказала баба Маша. - Я уж сколько годов под Фёдорову липу свои волосы кладу. А она - надо же! - возьми да сломайся.
- Зачем кладешь?
- Сама не знаю... Собираю всё своё - волосы, ногти. И под дерево.
- А собираешь-то зачем?
- А то ты не знаешь... На том свете ведь каждый оброненный волос, каждый ноготок отыскать, да подобрать заставят. Тут-то ладно, я уж как-нибудь... Но вот я еще три года в Свердловске жила...
- Ой, дура ты, Марья Петровна! А еще комсомолкой была!
- А я и комсомолкой в церковь ходила!.. Ты мне вот что скажи, Любаша, сможет ли Иван Иваныч что-нибудь с моей липой придумать, помочь как-нибудь?.. Может ведь, да? Корни-то ведь остались, ну и пустил бы он от них новое деревце. Вот бы хорошо было. И о Фёдоре память, и мне спокойней...
Долго сидели соседки за обитым истёртой клеёнкой столом, пили чай с потемневших блюдечек, смотрелись в никелированный самовар, слушали по радио районные новости.
- И крышу бы мне поправить надо, - вспоминала баба Маша.
Шуршали за обоями осмелевшие мыши.
- Да и у тебя крыльцо давно сгнило.
Постукивали в окно ветки рябины.
- И телка скоро забивать нужно будет.
Затрещали во дворе слетевшиеся откуда-то сороки - недобрые вестницы.
- А навоз так слежался, что мне теперь его никак не осилить.
- Ладно, - со вздохом сказала баба Люба. - Знаю я, чем Иван Иваныча порадовать. Да шибко сомневаюсь, доброе ли это дело... Трактор-то на ходу у тебя? Готовь - к райцентру поедешь.
Трактор у бабы Маши остался от мужа. В перестройку, когда брошенные государством колхозы и совхозы начали разваливаться, распродавая потихоньку имущество, бывший бригадир и почётный пенсионер Пётр Степанович решил заняться фермерством - очень уж завлекательные перспективы этого дела рисовали всевозможные телепередачи. Используя старые связи, он за бесценок приобрел разбитый двадцатипятисильный трактор “Владимирец”, который кроме как “пукалкой” никто не называл, а так же небольшой одноосный прицеп, плуг и культиватор. Остальное железо Пётр Степанович собирал по полям, да на заброшенных полигонах. Там он нашел хорошую борону, запасные колёса, требующую ремонта сенокосилку - и множество других полезных вещей.
Фермерством Пётр Степанович увлекся всерьез. Но так и не разбогател, а лишь здоровье своё растерял. Умер он от сердца - однажды утром оделся, собрался идти картошку подпахивать, да почувствовал колкую боль в груди, присел на лавочку, наклонился вперед, лицом синея, - и упал, уже не дыша.
Помимо трактора оставил Пётр жене шестерых телят, двух дойных коров и несчитанный табун овец. А через два года от всей скотины остались у бабы Маши корова Галя, да овца Поля - но и на них-то сил едва хватало. Кабы не трактор, да не помощь Иван Иваныча - держала бы баба Маша одних куриц.
А с трактором баба Маша управлялась неплохо. При Хрущеве она несколько лет проработала на местной МТС, а позже, при Брежневе, ей не раз приходилось садиться за руль колёсного Т40 и за рычаги гусеничного ДТ75. До сих пор она хранила в ящике комода вырезку из местной газеты, где знакомый очкарик-корреспондент, теперь давно уже спившийся, называл ее “нашей Ангeлиной Пашей”.
Солярки в трехсотлитровой бочке оставалось чуть, и баба Маша, достав из комода завёрнутые в тряпицу деньги, отсчитала несколько купюр. Цены на бензин росли стремительно, а дизельное топливо теперь стоило немногим дешевле бензина, но баба Маша надеялась, что на одну полную заправку денег ей хватит. Может быть даже и “стратегический запас” в бочке пополнить удастся.
Трактор завелся сразу, не капризничая - стрельнул сизым дымом, кашлянул и тут же ровно затарахтел, дрожа, будто пойманный за уши кролик.
Осторожно, задним ходом, вывела баба Маша трактор со двора. Остановилась перед домом, открыла дверь, махнула рукой соседке, крикнула, голосом перекрывая треск дизеля:
- За курами погляди, в обед зерна им дай! А к вечеру я, чай, вернусь! Если припозднюсь, скотину покорми! Пойло у печи стоит, оно уже готово, только тёплой водой разбавить надо!
- Всё сделаю, не впервой. Езжай себе спокойно.
- Ну, ладно...
Трактор двинулся - нырнул передними колесами в заросшую колею старой дороги, подпрыгнул, рявкнул натужно, изрыгая дым, - и покатил, потихоньку ускоряясь, мотаясь из стороны в сторону, подминая высокую траву, ломая ветки близких кустов.
Путь предстоял неблизкий - до райцентра было двадцать пять километров, а до места, куда направлялась баба Маша, и того больше. Да еще она собиралась заехать в Матвейцево к родственникам - а это изрядный круг выйдет.
Спешила, торопилась баба Маша, гнала трактор по дорожным ухабам, не жалея ни себя, ни машину. Скорчившись, вцепившись в обмотанный изолентой руль, цепко смотрела на разбитую лесовозами дорогу, глохла от дизельного рокота. Рассеяно думала о житье-бытье, прикидывала, сколько денег с пенсии отложить на покупку дров, решала, а не проще ли будет втихую вытянуть трактором из леса несколько поваленных берез, да самой их и разделать.
Самой - с помощью Ивана Ивановича.
Не чужой, чай. Не откажет теперь. Не уйдет, не бросит.
Ох, не дай Бог!
Вспоминала баба Маша брата своего Фёдора и мужа Петра, вспоминала и заменившего их Ивана Ивановича...
В деревню привела его Люба году, наверное, в девяносто пятом - через несколько лет после смерти Петра. В тот день, помнится, бестолковая овца Поля свалилась в выгребную яму заброшенного дома. Вытащить её оттуда оказалось непосильным делом для двух пожилых женщин, но, глядя, как убивается Марья Петровна, слушая, как диким голосом орёт завязшая в грязи скотинка, баба Люба не выдержала:
- Ладно, приведу помощника. Только ты, Маша, дома сиди, и носа из него не показывай.
Просидела баба Маша в избе целый день, снедаемая любопытством. Где ж это Люба помощника нашла? В Лазарцеве, что ли? Так ведь далеко! И что это за помощник такой, что от него прятаться надо?..
Люба пришла под вечер, стукнула в стекло, крикнула:
- Вытащили твою Польку, пасется у колодца под липой. Ты дай мне молочка, расплатиться с помощником надо.
- А как звать-то его? - спросила баба Маша, передавая в окно крынку.
- Иван, - чуть замешкавшись, ответила Люба. - Иван Иванович.
С той поры и повелось: едва появлялось какое неподъемное дело, баба Маша бежала к соседке:
- Ты бы уж позвала Иван Иваныча, Люба. Никак нам без него не управиться. А я бы отблагодарила, чем смогла. Тесто, вон, с утра замесила...
Не отказывала ей Люба, видно, шибко нравилось Иван Ивановичу угощение, видно, сам с охотой делал он крестьянские дела. Столбы новые для забора вкопал, терновник вырубил, старую яблоню выкорчевал, покосившийся двор выровнял, в баню новый котёл заместо старого затащил.
А вскоре довелось бабе Маше увидеть загадочного помощника. Шибко она тогда удивилась, испугалась даже сперва до икоты, а потом вспомнила, что про Любашу всегда говорили, и, вроде бы, поуспокоилась, посчитала, что ничего особенного, как бы, и не произошло.
Главное, что мужик есть.
А уж какой он весь из себя - это дело десятое.
В Матвейцеве баба Маша не задержалась ни на одну лишнюю минуту. Жил у нее здесь брат - седьмая вода на киселе. Не жаловала его баба Маша, хотя и сама не могла объяснить, почему. Общались они редко - по необходимости; встречались в основном на похоронах общих родственников.
- За долгом я! - крикнула баба Маша копающемуся в огороде брату. Она даже трактор не стала глушить, только дверь открыла, да опустила ногу на заляпанную грязью приступку. - Здравствуйте!
Загорелый высокий мужчина медленно выпрямился; прищурясь против солнца, из-под руки посмотрел на нагрянувшую сродственницу, широким жестом вытер со лба пот. Неторопливо, в раскачку, подошел ближе, приоткрыл калитку:
- Зашла бы в дом, что ли, Марья Петровна.
- Некогда, Василий Степанович. Спешу. Вернешь ли деньги, что полгода назад брал?
- Денег у меня сейчас нет, Марья Петровна.
- А мне надо бы... Может, перезаймешь у кого?
- Да, вроде, не у кого перезанять... А не возьмешь ли долг золотом? - брат Василий наклонил голову, прищурился хитро.
Ох, не любила баба Маша такого вот прищура.
- Шутишь, никак?
- Нет, не шучу. Поповское золото, старое, настоящее.
- Откуда?
- Знамо, откуда... Клад я нашел.
- Это где это?
- Всё тебе расскажи... Каменный дом на том краю деревни помнишь ли?
- Председателев?
- Он самый. Нет больше того дома. Рассыпался... Только ты это... - Василий спохватился, зыркнул по сторонам. - Не шуми про золото-то. Ни к чему нам это.
- Неужто и вправду клад?
- Говорю же: золото поповское в председателевом доме схоронено было. Возьмешь ли вместо денег?
- Ты неси, а я погляжу.
Василий кивнул и, не торопясь, вразвалочку, ушел в дом. Пропал он надолго - баба Маша уж трактор глушить собралась, жалея солярку. Вернулся Василий какой-то притихший, будто бы даже съежившийся. На левом плече его висела паутина - то ли на чердак, то ли в подпол лазил брат за припрятанным золотом.
- Вот, гляди, - Он подошел у трактору, протянул руку, разжал поцарапанный кулак. На ладони лежал золотой крестик с маленьким зеленым камешком в серединке.
- В городе, небось, бешеные деньги за него дадут, - тихо сказал Василий. - Камушек-то, наверняка, изумруд.
- Ладно, - сказала баба Маша. - Возьму.
Примерно через час трактор выехал на асфальт. Дорожный указатель подсказывал, что до райцентра осталось три километра, но сегодня баба Маша туда не собиралась, и потому сразу повернула налево. Оставшийся путь отнял у неё ещё двадцать минут.
Придорожная забегаловка “Ромашка” была единственной закусочной на всей трассе, связывающей райцентр с областным городом. Потому заведение это пользовалось большой популярностью, - и не только у водителей дальнобойщиков. Тем не менее, именно дальнобойщиков здесь было больше всего. Огромные машины с длинными, будто вагоны, фурами стояли на обочинах; редкие “москвичи” и “жигулёнки” смотрелись среди них будто лодчонки, затёртые торосами.
Первым делом баба Маша заехала на заправку, где выяснила, что дизельное топливо подорожало почти вдвое. Потратив на солярку все деньги, она вывела трактор на дорогу, остановила его в стороне от прочих машин, заглушила и выбралась из кабины.
Неподалёку молодой парень в оранжевом, запачканном маслом жилете сосредоточенно пинал колесо грузовика. Появление бабы Маши отвлекло его от этого занятия; он с интересом и, пожалуй, с удивлением посмотрел на ветхую старушку, быстро глянул в сторону трактора, спросил:
- Тебе, мать, может, помочь чего надо?
- Сама управлюсь, - живо откликнулась она.
Он одобрительно хмыкнул:
- Ну, гляди.
Она глядела: на троицу мужиков, собравшихся за столиком под навесом возле мангала, на скучающую официантку в сером больничном халате, на зевающего в дверях летней кухни мужчину в поварском колпаке и брезентовом мясницком фартуке, на собак, чутко дремлющих возле мусорных баков, на выбирающегося из высокой кабины одетого в джинсу водителя, на дремлющую в “Жигулях” женщину, на голоногую простоволосую девчушку, прохаживающуюся среди машин.
Еще две-три такие же девчушки, наверняка, были сейчас внутри “Ромашки”, жадно что-нибудь жевали, или просто сидели в углу, присматриваясь к заходящим внутрь водителям, ожидая, что кто-нибудь из них поманит одну за собой.
- Погоди, дочка... - Баба Маша догнала девчонку, пошла с ней рядом, не зная, с чего начать разговор, теряясь и смущаясь.
- Чего? - Жвачный пузырь лопнул на ярко накрашенных губах.
- Как звать-то тебя?
- Наташка. А что?
- Сколько лет-то тебе?
- А тебе, бабуль, какое дело? Воспитывать станешь? Не надо. Иди лучше себе, куда шла.
- Так к тебе я и шла, - заторопилась баба Маша. Она суетливо достала из кармана приготовленную на такой случай “Школьную” конфету, протянула девчонке, чувствуя себя страшно неловко. - На вот, возьми. И послушай меня, старую, что сказать хочу...
Девчонка с сомнением посмотрела на конфету. Взяла. Развернула. Сунула в рот:
- Ну и?..
- Ты ведь, это... С мужиками... за деньги... Да?
- Бывает и не за деньги. Жизнь такая. А что?
- Ты на-ко вот, погляди... - Золотой крестик с зеленым камушком в серединке блеснул на иссушенной, почти чёрной ладони. - Золото, настоящее, старинное. И изумруд. До революции еще сделано... В городе за такую вещь, знаешь, сколько дадут?
В глазах девчонки блеснул интерес.
- Сколько?
- Десять тыщ! - назвала баба Маша первую пришедшую в голову цифру. И тут же испугалась, что не поверит девчонка в такую сказочную сумму. - Десять тыщ. Если поторговаться. Настоящее золото, поповское, старое! И камушек еще. Десять тыщ, точно говорю, никак не меньше.
- И чего ты хочешь?
- Да-да, - закивала баба Маша, радуясь, что теперь можно перейти к делу. - Мужик у меня есть знакомый. Хороший мужик, работящий, добрый. Ты бы уж ублажила его. Чай, знаешь, как. А то у нас в деревне с девками-то трудно, остались только две бабки. А он ведь в силе ещё, мужик-то. Ему без этого дела никак нельзя.
- Десять тысяч? - Золотой крестик светился в чёрных глазах девчонки.
- Да. Мы и накормим тебя, как следует, в баньке попарим. Может, понравится тебе у нас, так и вовсе решишь остаться.
Девчонка с сомнением хмыкнула.
- А далеко деревня?
- Не очень. Ты не волнуйся, я отвезу тебя. Вон, трактор мой стоит.
- Десять тысяч?
- Десять, десять.
- Я и не видела никогда денег таких.
- В городе продать можно. Можно и в райцентре, но тогда меньше дадут.
- А мужика-то как звать?
- Иван Иванович он. Добрый. Работящий.
- Десять тысяч, - девчонка покачала головой. - Ладно. Только крестик ты мне сразу отдай.
- Конечно. Как в деревню въедем, так сразу и отдам.
Они одновременно кивнули, довольные друг другом, и направились к стоящему в стороне трактору.
Двоим в железной кабине было тесно.
Девчонка сидела боком, прижималась холодным бедром к сухому колену бабы Маши, угловатым плечом упиралась в пыльное стекло. Ссутулившаяся, подобравшая свои длинные худые ноги, она походила сейчас на иззябшую болотную цаплю. Закинув тонкую руку за спину пожилой женщины, она крепко вцепилась в спинку единственного здесь кресла и отрешенно смотрела на дорогу.
О чем она думала?
Баба Маша представить не могла, как должна сложиться жизнь, чтобы такая вот молоденькая девчонка, бестолковая сикушка, бросила всё, что у неё было, и пошла по рукам. Ну разве могла она понять, что творится в голове у этой Наташки?
- Ты сама-то откуда?
- Из Коворчино.
- А живешь где?
- Где придётся, знакомых много. Думаю, в город податься. Может, в Москву даже... Только там деньги нужны будут... А у вас ещё что-нибудь вроде этого крестика есть?
- Найдем...
Трактор скатился с насыпи шоссе и, подпрыгнув, въехал в глубокую колею грунтовой дороги.
- Долго нам еще ехать?
- До темна успеем.
Солнце только клонилось к западу. По лугам и заброшенным полям ползли тени облаков, а из-за зубастой полосы леса медленно выбиралась огромная иссиня-чёрная туча.
- Опять дождь будет, - вздохнула баба Маша и, помолчав, неожиданно для себя принялась рассказывать историю о липе, посаженной братом Фёдором перед уходом на фронт. Рык дизеля глушил ее слова; она почти кричала, чтобы быть услышанной, и оттого обычный рассказ её сделался похожим на отчаянную жалобу.
Гроза началась, когда они въехали в лес. Совсем близко сверкнула молния, оглушительно рявкнул гром, грянули по крыше жёсткие струи ливня. За считанные секунды трактор погрузился в густую тьму и будто бы даже увяз в ней.
И баба Маша кричала, надрывая уже севший голос:
- Места у нас глухие, особенные! И лес этот не простой. Даже по дороге чужой человек может не пройти! Заплутает! Тут у нас недавно сбежавшие бандиты без следа сгинули!..
Трактор размеренно покачивался и будто плыл вне времени, вне пространства, переходя из одного мира в другой.
По сторонам двигались едва угадываемые чёрные фигуры: то ли кажущиеся живыми кусты и деревья, то ли замороженные волшебством лесные чудовища. Свет фар и вспышки молний выхватывали из иссечённой струями мглы тянущиеся к машине уродливые сучья-лапы и клонящиеся к ней стволы-туловища.
Наташка вдруг вспомнила, что вот так же - погружаясь в шевелящуюся тьму под грохот электрических разрядов - работала машина времени в каком-то старом фантастическом фильме, который она видела однажды по телевизору. Ей стало жутко.
Очередная вспышка молнии на миг высветила размытую дорогу. Наташка взвизгнула: ей показалось, что на обочине, прислонившись к призрачно-белой берёзе, стоит огромное, фигурой похожее на человека чудище и размеренно, словно машина, машет рукой трактору.
Вцепившаяся в руль баба Маша быстро глянула на девчонку, крикнула, широко разевая неровный беззубый рот:
- Ты не бойся! Это Иван Иванович с нами здоровается! - Её морщинистое лицо, подсвеченное снизу тусклым светом приборной доски, казалось уродливым и мёртвым, словно резиновая маска.
Наташка зажмурилась, запищала и тихо поползла вниз, на холодное дно кабины.
Остальное было как во сне: непонятная суматоха, шум, темнота, чьи-то руки, ласковые голоса:
- Экая красавица... Конфету-то ты ей сразу дала?
- Да.
- Когда подействовала?
- Недавно, должно быть.
- Голову, голову ей придержи... Пей, милая, пей...
Что-то сладкое и пахучее лилось в горло, текло на подбородок.
- Ты глотай, милая... А теперь вставай... И пошли, пошли... Держись за меня... И-и, раз ножкой... И-и, два другой...
Ее поддерживали с двух сторон, ей помогали шагать. Она была как пьяная - мысли путались, ноги заплетались, перед глазами всё плыло, качалось, дрожало - и это было очень смешно.
- Улыбается, красавица... Вот и правильно. Посмейся, посмейся...
Её привели в тёплое и светлое место. Раздели. Заставили сесть.
- Ручку, ручку подними... Теперь ножку давай сюда... Вот, хорошо. Вот, умница...
На неё лили горячую воду, её окунали, оттирали, намыливали. Потом её завернули в нечто большое и мягкое, сунули в рот что-то вкусное и рассыпчатое.
Ей хотелось спать.
Но чужие руки неустанно тормошили её, а добрые голоса всё что-то от неё требовали:
- Жуй... Одевайся... Пей... Встань... Ляг...
Потом она долго куда-то падала и слушала, слушала, слушала дурманящий ласковый голос:
- Невеста... Ну чистая невеста...
К утру буря стихла.
Накинув на плечи мужнину фуфайку, баба Маша вышла посмотреть на липу. Несколько раз обошла она колодец и поваленное дерево, а потом заметила в траве у корней два слабеньких ростка с листьями-сердечками. И на душе разом потеплело.
- Вот как славно-то! Теперь уж Иван Иванович о вас позаботиться, не даст пропасть...
Натужно проскрипели ворота соседского двора - Любаша выпускала кур. Баба Маша направилась к ней, крикнула издалека, едва миновав ржавый остов комбайна:
- Не пора ли?
- Пора! - откликнулась соседка.
Утро выдалось чистое и звонкое - словно фужерное стекло. Солнце ещё только собиралось показать из-за деревьев выгнутый бордовый край, и по светящемуся небу будто слабый марганцовый раствор растёкся, обильно напитав рыхлую вату облаков. За околицей щедро считала чьи-то годы жизни кукушка, в огороде трещали налетевшие из леса сороки, а на дворе бабы Маши надрывно и неумело пробовал голос молодой петушок...
Они встретились у дровяного сарая: баба Люба вела Наташку под руку.
- Как она? - тихо спросила баба Маша.
- Хорошо...
Одетая в долгую белую рубаху Наташа едва переставляла ноги. Глаза с огромными зрачками словно мутной пленкой были затянуты.
Баба Маша взяла девушку под локоть, прижала к себе.
- Пойдём, что ли? - неуверенно зачем-то спросила баба Люба.
- Пойдём...
Медленно шли они по росистой траве через тихую деревню: мимо кривенькой избы Васьки Лихачева, мимо завалившихся хорoм Петра Петровича Варломеева, мимо крепкого еще дома Федота Солдатенкова, мимо заросшего крапивой участка, где когда-то было хозяйство братьев Нефёдовых.
Шли к стоящей на пригорке сосне.
- А я тесто для оладий поставила, - тихо сказала баба Маша, крепко держа расслабленную руку девушки. - В аккурат к обеду напеку.
- А я пирогов с грибами на ужин думаю сделать.
- И молочко парное будет, и сметана.
- Варенья два дня назад наварила.
- Будет, что на стол поставить.
- Найдём...
Они взобрались на пригорок и остановились, осматриваясь. Близкий лес дышал туманом, зябко вздрагивал, сбрасывая с отяжелевших крон остатки ночного дождя и утреннюю росу.
- Ты попридержи её пока, - сказала баба Люба и, наклонившись, подняла с земли обрезок стальной трубы.
Баба Маши кивнула и, зайдя Наташе за спину, крепко её обняла.
Баба Люба шагнула вперед. Помедлила чуть, собираясь с духом, потом широко размахнулась и ударила обрезком трубы по ржавому лемеху, висящему на остром обломке соснового сучка.
Лязг разбил стеклянное утро.
Баба Маша почувствовала, как вздрогнула Наташа.
Вереща, сорвались с оград перепуганные сороки.
Осеклась, умолкла кукушка.
И снова баба Люба ударила металлом по металлу, заставляя эхо зайтись в истеричном плаче.
И еще раз.
И еще...
- Тихо, девка, тихо, - увещевала задергавшуюся Наташку баба Маша. - Всё хорошо, и крестик я тебе сегодня же отдам, и покормим мы тебя, и помоем опять, и спать уложим...
- Тихо, ты, тихо... - Шептала она девушке в ухо под отрывистый лязг. А потом подняла голову, бросила взгляд в сторону леса и сама вздрогнула - как всегда вздрагивала, завидя Иван Ивановича.
Так и не смогла привыкнуть, хотя сколько уж лет бок о бок прожили.
Огромный, за два метра ростом, густо заросший шерстью, замшелый, он шагал, широко размахивая длинными мощными руками, и туман бежал у него из-под косолапых ног, завиваясь вихрями, поднимаясь волнами.
Захрипела, застонала Наташка, разглядев приближающее лесное чудище. Попыталась вырваться, но, опоённая зельем, быстро лишилась сил и обмякла на руках бабы Маши. А та всё приговаривала быстро, стараясь не смотреть на близкого уже Иван Ивановича:
- Не бойся, дитятко. Не бойся. Ты, чай, и не с такими зверями встречалась. Этот только на вид страшный, а так-то он ласковый. Не веришь? У Любы, у Лешачихи нашей спроси, она знает, она скажет. Добрый он, и работящий. Хороший мужик, не зверь какой-нибудь непутный. Ты уж будь с ним ласкова. Ты уж с ним как-нибудь... И всё хорошо будет. Всё хорошо. Поживешь тут у нас до лета, а там, глядишь, и сама останешься. Нельзя нам без мужика, Наташа... Никак нельзя... Ох, никак...
рассказ четвертый: Дом на отшибе
Ч
ёрного человека Анна Николаевна увидела, когда поздно вечером возвращалась домой с дальнего ягодника.
- А я и гляжу, - рассказывала она всем на следующий день, делая круглые глаза и промокая слюнявый рот углом головного платка. - Чужой. Не наш. И одет чудно. Здравствуйте, говорю ему. А он так странно повернулся, будто шею выкрутил, - и вроде бы зашипел на меня, неслышно так. Я пригляделась - батюшки! - а через него окошко видно. Степановых дома окошко - просвечивает. Тут уж мне будто в голову тяпнуло - и не помню ничего. Ужас! Очнулась в избе. Занавески задернула, на печь забралась, лежу, думаю, стукнут сейчас кто в окно или в дверь - сразу со страху и помру.
- Так это отец Гермоген был, - важно сказал дед Артемий, выслушав соседку. - Он и раньше появлялся. Я, было дело, видел его как-то. Точно, как ты говоришь: большой, огрузлый, в чёрной рясе, и видно сквозь него.
А вот Василий Дранников бабке не поверил. Заметил рассудительно, как и положено человеку с высшим образованием:
- В сумерках чего только не привидится. Ты бы уж народ не смешила. Придумала тоже: чёрный человек.
А жена его, Светка, улыбнувшись, добавила:
- Ты у нас чисто сорока, баба Аня. Всё через тебя узнаем. То чёрная машина, то чёрный человек. Что дальше-то будет?
На сороку Анна Николаевна обиделась. Буркнула:
- Смейтесь, смейтесь. Про машину тоже говорили, что привиделась...
Чёрный джип Анна Николаевна заметила два дня назад. Рано утром, еще затемно, отправилась в лес за черникой, и проходя мимо каменного, давно заброшенного дома, увидела за кустами плоскую лакированную крышу автомобиля. Удивилась, кто бы это мог быть, подумала сперва, что, наверное, городские заехали в одичалый безнадзорный сад. Да только ведь не сезон: малины почти нет, терновник не вызрел, яблоки вообще не уродились, да и рано еще для яблок-то.
Так чего же им тут надо?
Подкралась Анна Николаевна ближе. Подивилась на невиданную машину, внутри которой, наверное, десять человек могли спокойно рассесться. По налипшей грязи да по следам поняла, почему никто не слышал, как приехало в деревню это железное чудище: прибыло оно с неезженной стороны, по старой дороге, что шла мимо кладбища и терялась в лесу. Когда-то это был короткий путь в соседний район; теперь тут разве на танке проехать можно.
Ну или на такой вот громадине: вон колёса-то, шире тракторных.
В доме что-то громыхнуло: будто железяку какую уронили или специально бросили, и Анна Николаевна вздрогнула. Вспомнилось, как лет пять назад вот такие же вот заезжие убили старушку в соседнем Ивашеве, вынесли из дома все иконы и фарфоровый сервиз.
Много людей сейчас повадилось по заброшенным деревням ездить: одни полы в заброшенных избах снимают, другие по чердакам разное старьё ищут, третьи просто хулиганят: оставшуюся мебель крушат, стекла бьют, печи раскурочивают. Забавы ради могут целую деревню подпалить.
А этим-то что надо? Почему тихо приехали, ночью, с заброшенной стороны? Заблудились, настоящей дороги не знали или таятся?
В заколоченном окне мелькнуло что-то, и Анна Николаевна совсем перепугалась. Забыв о ягодах, пригнулась, повернула назад. Сперва быстро шагала, оглядываясь, потом не выдержала, побежала. Пока добралась до крайней жилой избы, всё прокляла: и себя, старую, неуклюжую, и сапоги неудобные, и портянки некстати сбившиеся, и тропку неровную. Ворвалась в деревню красная, задыхающаяся, едва живая. Переполошила спящих еще Степановых: забарабанила им в окно, крича сама не понимая что, торопясь высказать всё сразу, а оттого сбиваясь, впустую тараторя.
Ну, чисто сорока.
Иван Степанов вышел на крыльцо с ружьем. В трусах, фуфайке на голо тело - и с заряженным ружьем на руках. Спросил, колко оглядывая округу из-под седых бровей:
- Что?
И Анна Николаевна вдруг сообразила, до чего смешны и надуманы её страхи, потеряно махнула рукой и, чувствуя, как отнимаются ноги, опустилась на скамью, что была вкопана еще отцом нынешнего хозяина...
Ближе к вечеру собравшиеся мужики всё же сходили посмотреть, кто это приехал в заброшенный дом. Степановское ружье пока решили не брать. А, вернувшись, доложили:
- Из города. Трое. Один как бы за главного. Говорит, что хочет дом купить.
- Председателев дом? - удивился дед Артемий, с мужиками не ходивший. - Каменный, на самом отшибе?
- Его.
Дед нахмурился, покачал головой:
- Ох, как бы не вышло чего. В том доме уж сколько лет никто не живет. И неспроста...
Историю этого дома в Матвейцеве знал каждый. Построен он был в первые годы советской власти, во времена смутные и непонятные, когда приезжие чужаки рушили старый уклад и призывали идти в новую светлую жизнь.
Мишка Карнаухов, непутёвый сын Петра Ивановича Карнаухова, вернулся в деревню после трех лет безвестного отсутствия. Был он одет в кожаную куртку и военного образца шаровары, рукав у него был обвязан кумачовой полосой, а на голове красовался лихо сдвинутый на затылок картуз. Имелись у Мишки наган в самодельной липовой кобуре и целая стопка разных бумаг, писем и декретов, из которых получалось, что он, Михаил Петрович, является всей местной властью и представителем пославшей его партии.
Первым делом организовал Мишка комитет деревенской бедноты.
Потом сослал в Сибирь Фёдора Незнанцева, у кого, было дело, батрачил мальчишкой.
А после этого рьяно взялся бороться с поповским мракобесием, отчего вскоре получил намертво прилипшее прозвище “окаянный”.
Кончилась эта борьба большим взрывом и пролитой кровью.
По специальному запросу прислали из города ящик взрывчатки. Под самый фундамент заложил окаянный Мишка заряды. В набат колотя, собрал народ поглядеть, как рухнет, подрубленный взрывом, местный лукоголовый оплот мракобесия. Только - вот незадача - заперся, забаррикадировался в церкви поп Гермоген с попадьей и малолетним поповичем.
Недолго уговаривал их выйти Мишка. Злой, как чёрт, пообещал им прямую дорогу в ихний рай, да и запалил фитили.
Как из преисподни полыхнуло пламя, лизнуло белые стены храма, дотянулось до червлёной маковки, до золочёного креста - и опало. Громыхнуло так, что в ближайших избах из окон стёкла повылетали.
Но устояла церковь. Только трещинами вся покрылась, на несколько частей раскололась.
И тогда красный Мишка приказал народу браться за топоры, ломы да за кувалды. По кирпичику, по досточке велел разобрать церковь, а изувеченные тела поповской семьи распорядился схоронить в лесу.
Не все послушались окаянного, хоть и угрожал он револьвером. Но нашлись люди, что помогли Мишке. А он уже новое дело задумал: из останков церкви, из старинных кирпичей решил построить себе дом. Место выбрал на отшибе, недалеко от кладбища, подальше от людей. Вызвал в помощь артель строителей, сказавшись, что строит общественный клуб с читальней.
За полтора месяца возвел он себе каменные хоромы с жестяной крышей и башенкой. Переехал на новое место из тесной отцовской избы. Но не заладилась у него тут жизнь. Видели люди, что изменился Мишка: притих, лицом побледнел, похудал сильно. Каждую ночь светились окна каменного дома - пугала окаянного Мишку темнота. И разное стали поговаривать в деревне: то, вроде бы, кто-то крики слышал, доносящиеся из стоящего на отшибе дома, то, будто-то, кто-то видел чёрную фигуру, похожую на отца Гермогена, сидящую на жестяной крыше возле башенки.
Через год Мишка Карнаухов из каменного дома съехал.
А вскоре грянула коллективизация, и Мишка, ставший председателем колхоза “Ленинский завет”, велел устроить правление в оставленном им доме. Почти каждый день сидел он в своем кабинете, но никогда не задерживался здесь до ночи. Видели люди - боится Михаил Петрович темноты, и даже заряженный наган от этого страха его не спасает.
Семь лет просуществовал “Ленинский завет”. Семь лет председательствовал Мишка Карнаухов. А потом пришла директива из области, и на базе нескольких колхозов за считанные недели был создан крупный животноводческий совхоз “Ленинский путь”. Опустело ненужное больше правление. Освободившийся от должности Мишка, грозясь вскоре вернуться, впопыхах уехал в район, где занял какое-то новое место и получил казённую квартиру.
А дом, построенный из кирпичей порушенной церкви, так и остался брошенным. С годами недобрая слава его крепла, и всё больше жутких историй складывали местные жители про стоящее на отшибе каменное здание, не забывая поминать окаянного Мишку Карнаухова и убитую взрывом семью отца Гермогена.
Приезжие показались на следующий день. Они прошли через всю деревню, осматривая избы и, порой, останавливаясь, чтобы перекинуться парой слов с попадающимися навстречу селянами. Говорили они скупо, будто слова берегли, или боялись ляпнуть что-то лишнее. Здоровались, спрашивали, как обстоят дела, и выслушав обычно короткий ответ с делано скучающим видом следовали дальше.
Василий Дранников пригласил заезжих гостей в дом. Те переглянулись, немо поиграли лицами - и согласились.
Стол Василий накрыл в прохладной горнице. Скрепя сердце, выставил бутылку “Пшеничной” водки, с советских еще запасов, и банку самогона. Жена его, Светлана, принесла закуску: огурцы солёные, картошку на постном масле жареную, две банки кильки в томатном соусе и жёлтое, нарезанное тонкими ломтиками сало.
Гости много не ели: то ли брезговали, то ли пища такая была им непривычна. А вот бутылку “Пшеничной” уговорили быстро. Потом и за мутный самогон, на можжевеловом корне настоянный, взялись.
И странный разговор у них у всех получился.
Василий, хитро щурясь, ненавязчиво пытался втолковать чужакам, что затея их бестолковая и ненужная. Дом этот старый, нехороший, стоит на отшибе, кладбище, опять же, рядом. Да и деревенька-то их, Матвейцево, хоть и не шибко далеко от райцентра находится, но всё же край захудалый и вымирающий. Нет тут никакого будущего, еще лет двадцать - и все избы зарастут крапивой да иван-чаем по самые окна. Зачем же дом покупать в таком бесперспективном месте? Пошто впустую деньги тратить?
Раскраснелся Василий со спиртного, разошелся, раздухарился: историю дома рассказал, про явление чёрного человека вспомнил, хоть сам в страшилку эту не верил. Почти уже угрожать начал, что, мол, если купите дом этот, то ничего хорошего не ждите...
Гости внимательно его слушали. И странный блеск в их глазах появился, когда хозяин фамилию окаянного Мишки назвал. Переглянулись они, ухмыльнулись, закивали бритыми головами понимающе: знаем, мол, почему ты нас гонишь отсюда. И тоже угрожать взялись: если вы нам мешать в чем-то станете, то несдобровать вам. А коли разузнаем, что взяли вы из того дома, что вам не положено было брать... - верните лучше, не доводите до греха. Улыбались, угрожая, но слова-то какие-то в свою речь вворачивали незнакомые, неуютные, а, как ни странно, понятные: блатные на таком напористом языке говорят, любого говоруна своей феней заткнут.
Ушли гости. На прощание главный их, Михой назвавшийся, будто бы невзначай продемонстрировал пистолет, спрятанный под навыпуск одетой рубахой.
А Василий еще долго сидел в холодной горнице, катал по столешнице пустую бутылку и, хмурясь, гадал, сами дошли гости до идеи, которую он давно в голове держал, или надоумил их кто.
Горько вздыхал Василий, с досады хлопал ладонью по столу.
Украли! Пришли непрошеные - и разом все планы поломали!
Иначе зачем бы им председателев дом потребовался?..
Чувствовал Василий себя так, будто чужаки эти городские белым днем при всем народе обворовали его, да так хитро, что ни правды, ни управы на них теперь ни за что не сыскать.
Василий Дранников был мужиком работящим, хозяйственным и очень аккуратным. Во дворе у него всегда всё по полочкам разложено было. Стога он ставил по отвесу ровно, и так их граблями вычёсывал, что они, вроде бы, даже лосниться начинали. Да и дом его был - одно загляденье. Наличники новые, резные, двери всегда свежевыкрашенные, на печной трубе жестяной петух носом показывает, откуда ветер дует.
Односельчане относились к Василию по-всякому, но плохого слова никто про него сказать не мог. Ну и что с того, что странный он немного? Мало ли у кого какие странности бывают? Вон, Измайлова бабка на старости лет фантики из-под конфет стала собирать. Ей бы деньги на похороны копить, а она цветные бумажки утюгом гладит, да в сундук складывает.
У Василия странность была другая: он с детства мечтал о разном. Из-за этих своих мечтаний даже в армию не пошёл. Врачиха сказала, что у него с головой не всё в порядке. Хотя, это как посмотреть. Таких ясных голов еще поискать надо.
Лет пятнадцать назад сделал Василий ветряк с электрическим генератором, провел свет в курятник - так у него курицы нестись стали в два раза лучше соседских.
А десять лет назад соорудил он позади двора железный ящик, подвел у нему трубы, пустил их в дом. Теперь из навоза да помоев получает газ, баллоны ему больше не нужны, да и на дровах экономит.
Не всё, конечно, удавалось Василию. Как-то задумал он построить летательный аппарат, чтоб по воздуху в любое бездорожье до райцентра летать. Не вышло у него ничего из этой затеи, только денег кучу потратил, и сам едва насмерть не разбился. Зато, из больницы выйдя, смастерил он вскоре аэросани с двухметровым берёзовым пропеллером и тракторным пускачом вместо двигателя. Ревели эти сани так, что слышно их было за несколько километров - но ведь ездили, и быстро! И дорога им не требовалась, был бы только снег.
Внедорожную машину Василий потом продал знакомому из райцентра. На новые затеи требовались деньги, а нормальной работы в деревне уже не было. Крутился Василий как мог: скотину выращивал на мясо, металлолом собирал для сдачи, рыбу на продажу самоловными удочками добывал. И всё размышлял, как бы в родную деревню новую жизнь вдохнуть - в тетрадки мысли свои записывал, на рыжих листах миллиметровки планы чертил.
Выходило у него, что на месте Матвейцева нужно создать место отдыха. И требовалось для этого речку Ухтому перегородить плотиной, дабы около деревни образовалось водохранилище. С плотины бы пошло дешевое электричество, а на берегах можно было бы организовать песчаные пляжи. Получившийся водоем следовало обрыбить: щука и карась расплодились бы сами, а вот карпа надо завезти. Заезжим рыболовам можно продавать недорогие лицензии, зимой и летом сдавать под жилье маленькие бревенчатые домики. Организовать походы по окрестностям: за ягодами и грибами, да и просто красивые места поглядеть, их тут много, а городской житель до этого дела жадный. Ну и, конечно, надо бы построить достопримечательности, чтоб и заграничный гость сюда ехал, и своему вдвойне интересно было: восстановить взорванную церковь, сделать музей, а лучше несколько, бани построить - особые, русские, детский парк разбить. Ну и, конечно, дорогу необходимо поправить. И рекламу дать.
- Есть такая штука Интернет, - говорил Василий. - Вот мне бы еще компьютер с модемом, я за неделю бы сайт смастерил. А это реклама на весь мир!
Куда только не ездил Василий со своими планами: и в район, и в область. Даже в Москву, в министерства письма писал. Кое-кто отвечал: отдел по развитию туризма обещал свою помощь, если найдутся инвесторы; епархия положительно отнеслась к идее возрождения храма, обязалась прислать рабочих, если Василий сумеет собрать денег на благое начинание; сам губернатор прислал письмо, в котором давал слово следить за ходом строительства, когда оно начнётся.
Чудилось Василию, что в его силах сдвинуть великое дело. И обидно ему стало, когда заподозрил, что с покупки председателева дома городские чужаки начнут воплощать его тщательно проработанный план.
Потому и отговаривал их Василий.
Потому и стращал.
Сам всё хотел сделать - как всегда делал.
Ночью случилась стрельба.
Чёрный джип, буравя тьму дюжиной фар, рокоча и сигналя, несколько раз прокатил по деревне из конца в конец. Остановился возле колодца, едва не своротив его установленной на бампере лебёдкой. Из машины вывалились пьяные чужаки, загорланили, матом ругаясь:
- Выходи строиться!
Не обращая внимания на злобный собачий лай, обошли ближайшие избы, тяжёлыми ботинками попинали запертые двери, разбили несколько окон.
- Мы вам покажем! Пугать нас вздумали!
Потом прозвучали выстрелы - будто в ладоши кто-то несколько раз хлопнул.
Мужики на рожон не лезли. Не зажигая свет, тихо покидали дома, вооружались топорами да вилами, собирались в темноте на задворках. Вышли к разбуянившимся гостям толпой человек в двадцать. Первым шагал Иван Степанов с ружьем в руках.
Увидев селян, чужаки притихли, отступили к похожему на крепость джипу.
- Чего шумите? - сходу спросил Иван.
- А вы чего нам спать не даете? - огрызнулся на него бритоголовый Миха. - Попугать нас решили? Или шутки у вас тут такие?
Плечистый товарищ его, выдвинувшись вперед, глянул на охотничье ружье, сплюнул сквозь зубы:
- Убери, отец, свой шпалер. А то завтра здесь пять машин с бойцами будут.
- А ты меня бойцами не пугай, - зыркнул на него Иван, и сам мужик крепкий, немалого размера. - Мы тут на своей земле, управу на вас найдем.
- Видно будет, кто на кого управу найдет, - ощерился Миха.
- Идите-ка вы лучше проспитесь, мужики, - миролюбиво сказал Тимофей Галкин, пряча за спину большой хлебный нож. - Никому до вас дела нет. Чудите в своем доме, что хотите, только нам здесь не мешайте. И мы вам мешать не будем.
- То-то же... - процедил Миха, тяжелым взглядом обводя мужиков. - Да я вас за такие шутки...
Обошлось без драки. Городские гости скрылись в джипе, а мужики, поболтавшись для порядка на улице, минут через двадцать разошлись. Остаток ночи прошёл спокойно, хотя в деревне уже глаз никто не сомкнул. До самого утра простоял возле колодца чёрный автомобиль. Несколько раз выбирались из него чужаки, ходили кругами по деревне, уже не шумя. Догадывались, что много человек следят сейчас за ними. Озирались, оглядывались затравлено. Боялись чего-то. А как стало светать, завели машину и укатили в сторону кладбища, вернулись в каменный дом.
Было о чем поговорить селянам утром.
Было, что послушать.
- Говорил же! - гордо восклицал дед Артемий, потрясая клюкой. - Предупреждал - не вышло бы что! Нету добра от тово дома. И никогда не было.
Ежеминутно крестящаяся Анна Николаевна кивала, соглашаясь с дедом, и говорила шёпотом, что видела из окна, как по пятам за троицей пьяных чужаков следовал большой человек в чёрной рясе.
После обеда к Василию ввалились гости. Прошли, не разуваясь, в дом, встали, загородив выход. Хозяин на тот момент отдыхал, лежал на продавленном диване, сквозь дрёму смотрел телевизор.
Испуганная Светка, ойкнув, исчезла на кухне, спряталась за печкой, притихла, в тяжёлую кочергу вцепившись.
- Небогато живешь, - хрипло сказал привалившийся к косяку Миха.
Василий торопливо поднялся. На ноги вставать не стал, сел только, лицом повернувшись к гостям. Кивнул:
- Не с чего мне богатеть.
- Ладно, если так... А может прячешь ты богатство-то? - Взгляд гостя сделался цепким, внимательным.
Василий хмыкнул:
- Ну да... Прячу... Ищи давай. Найдешь, так со мной поделишься. Рад буду.
- Ты с нами не шути... Мы тут подумали, решили, что это ты ночью ряженый приходил. А кто еще? Вчера пугал, истории про привидений рассказывал, гнал нас из деревни. Вот и пришел...
- Ряженый? Ночью?
- Ты не придуряйся. Еще раз явишься, точно пулю в лоб получишь, понял?
- Да не ходил я к вам, мужики! Правду говорю!
- Ну-ну... Говори, почему не хочешь, чтоб я дом купил? Утащил из него что-то, боишься, что откроется?
- Да нет же! Что там утащить-то можно? Давно всё разворовано, сами, чай, видели.
Гости переглянулись.
- Смотри у меня! - погрозил кургузым пальцем Миха. - Я тут, надо будет, всё вверх дном переверну. Дай срок!
Чужаки помолчали тяжело, дыша перегаром, потом развернулись дружно, как по команде, и вышли один за одним.
Простонали под ботинками половицы. Хлопнула дверь. Мелькнули за окном тени; широкая ладонь легла на стекло, сжалась в кулак - и исчезла.
- Да что же это делается, Вася? - жалобно спросила жена, заглядывая в комнату.
- Из-за денег всё, Света... - сказал Василий, слепо глядя в телевизор. - Почуяли волки поживу... Эх, не успел я... Чуть-чуть не успел...
Вечером того же дня чёрный человек явился всей деревне. Вышел он из леса, с той стороны, где, вроде бы, был похоронен отец Гермоген со своей семьей. Зина Горшкова как раз отвязывала козу, что паслась у кустов. Выпрямилась с веревкой в руках, глянула - и аж затряслась.
Чёрная фигура словно плыла над травой. А сквозь нее тускло просвечивали белые берёзовые стволы.
Вдовая Танюша Смолкина, живущая на краю деревни, вышла запереть рассевшихся по насестам куриц. Увидела бредущего мимо человека в рясе, поняла, кто это, взвизгнула - и осеклась, вмиг онемев. Три дня потом еще заикалась.
Алексей Злобин, заядлый рыбак, вытащил из пруда проволочную вершу, вынул пяток карасиков, на чешуе которых отсвечивала вечерняя заря, повернулся к стоящему сзади ведру - и остолбенел, открыв рот.
По обкошенной тропке бесшумно двигалась чёрная одутловатая фигура. Вместо лица - мутное пятно с дырами глазниц, колючие травяные стебли босые ноги пронзают, а с белой, словно из прозрачного воска вылепленной руки кровь алой струйкой на землю течет - будто нить вьется.
Вдоль всей деревни прошел призрак.
Медленно шёл, будто каждому хотел показаться.
Видели его и Захарьевы, и Прокопьевы, и Измайлова бабка, и дед Кондратенков. Видел его и Василий Дранников.
Обмирали от страха люди, немели. Кого-то холодом обдавало, кто-то, наоборот, мелкой испариной от накатившего жара покрывался. Никто не решался потревожить призрака. Один только дед Артемий, собравшись с духом, чуть слышно окликнул Гермогена по имени. Тот приостановился, повернулся медленно. И, вроде бы, всхлипнул. Дед потом клялся и божился, что видел, как бесформенное серое лицо на миг обрело человеческие очертания.
Страшное, говорил, это было лицо...
Последним чёрного человека видел Иван Степанов.
- Меня напугать трудно, - рассказывал он после. - Но тут сердце словно в живот провалилось и замерло там. Волосы дыбом встали - и будто кто невидимый ледяной ладонью по голове провёл...
Прошел чёрный человек возле Степанового дома, высокого забора не заметив, и пропал за кустами.
Всем было ясно, куда он направляется.
Новость о том, что каменный дом ночью рухнул, принесла Анна Николаевна. Утром она, как обычно, отправилась за ягодами. Свернула чуть с дороги, обходя кладбище, поднялась на холм, глянула - а председателева дома-то и не видать. Только чёрный джип лакированной спиной поблескивает.
Развалился дом, рассыпался - будто взрывом его тряхнуло, а то и не одним.
Да только не было ночью никакого взрыва. Тихая была ночь.
С лопатами, с ломами сбежались мужики на развалины. Разобрали поломанную крышу, оттащили в сторону, взялись за кирпичные завалы, да быстро поняли, что с работой этой им одним не управиться.
- Без техники тут не обойтись, - сказал, отдуваясь, Иван Степанов. - Хуже бы не сделать. Да и милицию прежде надо дождаться.
- А люди как же? - спросил сердобольный Тимофей Галкин.
- А что люди? Ты погляди, это ж натуральная могила. Нет там живых. Всех, кто там был, сразу задавило... Пошли-ка домой, мужики. А то как бы чего не вышло...
Потихоньку разбрелись мужики. Остался на развалинах один Василий Дранников. Не давала ему, человеку с высшим образованием, случившаяся мистика покоя. Как же так может быть? - восемьдесят лет стоял крепкий дом, а потом вдруг в один миг по кирпичику рассыпался. Может, действительно, взорвалось что-то? Газ, может, в подвале скопился? Но почему тогда никто ничего не слышал?..
Долго бродил Василий по останкам дома, с собой разговаривая, высматривая сам не зная что. Ковырял ломом куски цемента, переворачивал кирпичи, ворошил ногами каменное крошево. О планах своих думал; смущаясь сдержанной радости своей, судьбу за второй шанс благодарил. Решал, с чего же начать планы свои реализовывать: запруду ли строить, или церковь начать восстанавливать.
Чтоб самую маленькую плотину поставить, кучу разных бумаг надо подписать, множество кабинетов необходимо обойти. С церковью, вроде бы, куда проще. Епархия поможет, обещала. А стройматериал - так вот же он, под ногами. На фундамент точно хватит. Хоть сейчас стройку затевай.
Эх, денег бы еще чуть...
Мысок его сапога ткнулся во что-то тяжелое, отозвавшееся глухим бряцанием.
Василий наклонился. Отодвинул обломок стены. Отбросил пластину застывшего цемента.
Из завала торчал мешок. Или что-то, очень на мешок похожее.
Василий еще раз пнул находку, проверяя, а не труп ли это.
Нет.
Он присел. Пощупал прелую ткань. Потянул ее - и подгнившие волокна легко разошлись.
Василий обмер.
На цементную пыль, на кирпичное крошево из прорехи полился сверкающий металл: старинные монеты, цепочки, браслеты, кольца. Охнул Василий, ладонями зажимая дыру, почувствовал, сколько еще драгоценностей прячется в мешке. Обернулся, зыркнул по сторонам.
Никого!
Что же теперь делать?
Да чего тут думать, дурачина?! Денег хотел? Так вот - пожалуйста! Только шустрее теперь надо, шустрее! Но с оглядкой! Мешок вытащить, мелочь по карманам распихать, крупное поблизости перепрятать.
Ах, нехорошо!
Ну а как иначе-то? Как?..
Он горстью подхватил просыпавшееся золото, пихнул в глубокий карман. Неуклюжими пальцами подцепил две серебряные монетки, крестик с зелёным камушком, цепочку с кулоном.
Будет, будет в Матвейцеве теперь церковь! Вроде бы новая. Но как старая.
Всё теперь правильно. Всё теперь сходится.
Всё теперь будет...
Через месяц после этих странных событий вернувшийся из райцентра дед Артемий с нескрываемым удовольствием рассказывал селянам всё, что удалось ему выведать через работающего в милиции внучатого племянника Гришку.
- Троица эта была из Ярославля. Братья они, двоюродные, что ли - не знаю точно. Искали они тут клад. При них письмо старое нашли, там всё написано было. А письмо-то знаете чье? - дед Артемий хитро щурился. - Мишки окаянного. Он, комиссарничая, золотишка-то, видно, изрядно понахватал. Ну и спрятал у себя дома. Разное золотишко - и с раскулаченных, на каторгу сосланных, и церковное. Вот эти трое его тут и искали. Да так ретиво искали, что дом обрушили.
- Ну да?
- Ага... Я вот тоже с этим не согласен, племяннику прямо так и сказал. Но милиции ведь надо грамотну бумагу написать. Вот они и решили: копали клад, да засыпались.
- Так золото-то нашли?
- Да какое тут золото! - отмахивался дед. - Мишка, небось, в незапамятные времена его отсюда вывез. Поди теперь найди концы, время-то уж сколько прошло... Да и чёрт с ним, с золотом! Вы самое главное слушайте: троих-то этих с Ярославля знаете как звали?
- Ну?
- Карнауховы они. Все. А Миха-то этот так и вовсе - Михаил Петрович. Точно, как Мишка окаянный. Понятно теперь откуда у них письмо про клад взялось? То-то! Родственники они, правнуки его или праправнуки. Вот я и думаю, мужики, что дом-то неспроста рухнул. Вовсе не газ это, как Васька говорит. Это мёртвый отец Гермоген за семью свою Мишке окаянному отомстил. Самого убивца не достал, так на родственниках его отыгрался. Вот оно значит как выходит. Вот она какая правда-то получается...
Где мой дитятко лежит?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой...
Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!
Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...
тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите!
И, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.
По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, лихо носятся уездные извозчики! а в пролетке городской охотник: у ног пегая легавая собака, на коленях ружье в чехле, на ногах высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдневное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба. Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолок. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством. Смиренницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки! Подымая тучи пыли, гнали лошаденок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой: У, нищеброды, пропади вы пропадом! Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрав окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу: Дядя! Чеку́ потерял! За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина! На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело. Разнуздай-ка лошадь-то, сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнущий стадом. Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом: Ну, и водица у вас! Ужли пьете? А у вас-то ай сахарная? ласково и весело возразил мужик. Тыщу лет пьем! Да вода что вот хлебушка нетути... За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь... С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует», говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, война с Японией и революция. Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи. Своей земли девать некуды! строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. Не война-с, а прямо бессмыслица! И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии: Ух, здорово! Так их, мать их так! Восхищала сперва и революция, восхищали убийства. Как дал этому самому министру под жилу, говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, как дал праху от него не осталось! Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти студенты!» И непонятно было: все говорят революция, революция, а вокруг все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ. Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! говорил Тихон Ильич. И, забыв о «жидах», прибавлял: Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом вдребезги расшибет-с! Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось стоит возле его лавки мужик и говорит: Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке это можно, взять-то ее. А так нет, не хорошо... Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит лары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает: Так. А если он не хозяин, а лодарь? Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех! Ну вот то-то и оно-то! Но приходила другая весть будут и меньше пятисот брать! и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным. Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы «и отчего это так густы они у дураков?» лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбьи, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал: Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь? Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой, и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, конечно, кто подельнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем зато, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его. Хоть бы картузишко-то купил себе! кричал он с усмешкой. Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжевых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу. Здорово, Тихон Ильич, сдержанно говорил он. Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда! Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой. Это... как сказать?.. не плохо бы. Да капитал-то, к примеру, не дозволяет. Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать? Это льстило Якову, но сдерживало еще более. О, господи! вздыхая, бормотал он дрожащим голосом. Деньги... У меня их, к примеру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радует... Прямо надо сказать не радует! Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал: Не радует? Скажи пожалуйста! И все из-за бабы? Яков, озираясь, скреб ногтями грудь: Из-за бабы, родимец ее расшиби... Ревнует? Ревнует... В снохачи меня записала... И у Якова бегали глаза: Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку цигарку... Кабы не глянул пропал бы! Что ж за цигарка такая? Костей мертвых натолкла да заместо табаку и всыпала... То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски! Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженая... Ухвачу за пельки рубаху драть жалко! Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решался: Ну, а как у вас там? Все бунту ждете? Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой. Ну! скороговоркой бормотал он. Какого там рожна бунту! У нас народ смирный... Смирный народ... И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь. А сходка-то зачем в воскресенье была? вдруг злобно кидал Тихон Ильич. Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру... Знаю, о чем галдели-то! Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение никак не работать у господ по прежней цене... Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку избы, на другом усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьми! Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать», Тихон Ильич крикнул «запрячь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор... А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник, злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело» пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономии посторонних батраков, заступить на их работу местным, по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника: А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился? И шорник цепко, на лету, ловил его слова. Ты бродяга-то! вопил он, наливаясь кровью. Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня черт! у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов? Ну, помни-и, Митька! крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. Помни ты это себе! Но никто не боялся угроз и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть. С-стой, стерва! сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. Сто-ой! А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня... Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!» В этот год Тихону Ильичу сровнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой. Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая, стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, за ней так и осталась эта кличка, была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал: В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею! Но Молодая молчала как убитая. Слышишь, что ли? шепотом крикнул Тихон Ильич. Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями. И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич точас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавшееся в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, раскрасневшееся лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула: Так и смажу тебя, малый! Пахло горячими помоями, горячим телом, по́том... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась... Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»: Вы шо гово́рите? И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело. Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул: Что ты делаешь, мерзавец ты этакий? Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него. Вы шо гово́рите? спросил он. И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью... Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его. Но кем было его заменить? Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой. Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора». Та-ак-с! протянул Тихон Ильич, услыхавши это. Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова? Все честь честью, ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, как и многие в городе, что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов. Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку; пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева. Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, крытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнущий конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос: Ну, здравствуй. Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто. Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич, начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю, изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... Он усмехнулся: С кем ты связываешься... И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал: Я, видишь ли, анархист... Тихон Ильич вскинул бровями. Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю, драть шкур не буду. Да и времена не те, вздохнул Тихон Ильич. Ну, времена-то все те же. Можно еще, драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению то есть. Ох, имей в виду: зачитаешься в кармане не досчитаешься! сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. Да, пожалуй, и не наше это дело. Ну, я так не думаю, возразил Кузьма. Я, брат, как бы это тебе сказать? странный русский тип. Я и сам русский человек, имей в виду, вставил Тихон Ильич. Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы русские. Дикий мы народ! Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанил пальцами по столу. Это-то, пожалуй, правильно, сказал он. Дикий народ. Шальной. Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, ну и что же? прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, покосился Кузьма п.) брата, так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что? Как же так толку что? спросил Тихон Ильич. Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то. И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб. Нам, брат, видно, не до этого, сказал Тихон Ильич. «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!» Лаптей! едко отозвался Кузьма. Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татаре, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый! Верно! сказал Тихон Ильич. Давай-ка лучше об делу поговорим! Кузьма, однако, стал договаривать: В церковь я не хожу... Значит, ты молокан? спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!» Вроде молокана, усмехнулся Кузьма. Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка, и совсем забыл бы. Ну, это не я первый, не я последний, возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь. Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается. Кузьма покачал головою. Говоришь привычное! сказал он строго. А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул, и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет? Разговор становился тяжелым. «Правильно и это», подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык: И рад бы в рай, да грехи не пускают. Вот, вот, вот! подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу. Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово одно, а дело другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело... Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал: Ну, значит, так, не стать перетакивать! и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом. Вот! сказал он. Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь. И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал: А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре! И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами... А у нас, Кузьма Ильич, сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился, а у нас одна песня... И неприятно, горько дернул губою: У нас одна песня: что́ почем? Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно, она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать, противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном не вычел за гужи. Теперь он был тверд. Отделываясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась, сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданнее. Родька работал в октябре на линии чугунки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада, то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сровнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой. Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть никто, не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь, опять выбившись из колеи! ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее, убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубаху сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал напрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему: Мой грех, брат, мой грех! Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец, ни с того ни с сего сказал: Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как Сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема. Имей в виду, горячо перебил Тихон Ильич, охальников всегда и везде было много. Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого? Мотю Утиную Головку, что ли? спросил Тихон Ильич. Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху? И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю в бочке сахарной. Начальство знакомое ну и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый». И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! горько продолжал Кузьма. Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает! Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор, жестяная труба в верхнем углу окна, был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть, «как в волостном правлении», думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил: Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю почитаешь волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева на́ землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха «лихая да алчная», свекор «лютый да придирчивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи; ровно сука на цепи», золовки непременно «псовки да кляузницы», деверья «злые насмешники», муж «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла во щи вылила, порог скребла пирог спекла», к муженьку же обращается с такой ре «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои умойся, в тебе онучи утрися, вот тебе обрывок удавися»... A прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»... Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? насмешливо спросил Тихон Ильич. И Кузьма радостно подхватил его слова: Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне... Стой, перебил Тихон Ильич, а как поживает сам Серый? Дениска говорит «с голоду околевает». Стерва мужик! сказал Тихон Ильич убежденно. И ты мне про него песен не пой. Я и не пою, сердито ответил Кузьма. Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой... То-то смеху было!..» Заметь! строго крикнул Кузьма, останавливаясь: «То-то смеху было!» Да постой ты, Христа ради, опять перебил Тихон Ильич, дай мне про дело-то слово сказать! Кузьма остановился. Ну, говори, сказал он. Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки... Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще навертывается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки и в испуге остановился. Далдо-он! говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но больным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается? И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила: А не отравила она его? И Яков поспешно забормотал: Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело сторона... Сторона, к примеру... И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила! К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична, ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась. Хлопот к тому же было по горло, а помощников нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые, кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе одиннадцать лошадей, а на стойле сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза. Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаешь письмо руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал: «Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи». И дружелюбно крикнул: С полем, что ли, Антон Маркыч? Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался. Ну, какое там поле! сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами. Так, прошелся ради геморроя, сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово. А имейте в виду, с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами, имейте в виду: совсем опустели наши Палестины! Звания не осталось что птицы, что зверя-с! Леса везде вырубили, сказал почтарь. Да еще как-с! Как вырубили-то-с! Под гребеночку! подхватпл Тихон Ильич. И неожиданно прибавил: Линяет-с! Все линяет-с! Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет, думал он, вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи... Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило, верно, простыл, стоя вечером на шоссе, чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжких телегах, на злых вороных битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник, он показывал три, поднял чуйку и, спять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей... Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночкой дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними, приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть, что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон... Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом, караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные. Протопи, протопи, братуша, сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом. Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать. Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник. Ай язык-то корова отжевала? сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели. Что под нос-то бубнишь? Цельную ночь шатался, теперь кормочку давай, пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою. Тихон Ильич покосился на него: Видел я, как ты шатался! Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного, ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но, верно, к обеду опять польет», подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая! Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив кострец и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку. «Связался черт с младенцем! подумал Тихон Ильич с отвращением. Ишь, всю ночь распутничала, а под утро на лавочку!» И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул: Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать! Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте. «Скука!» подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки: Что ж по грязи-то тащишь, старая транда? Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал: От транды слышу. Тихон Ильич быстро оглянулся, вышел ли малый, и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам. Вон! крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая! Старик вылетел за ворота и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса, вчерашний он только перерыл, переслюнявил, и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу. Готово, что ли? крикнул он, приотворив дверь. Поспеешь! огрызнулась кухарка. Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слыхал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай. В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где, над табуреткой с оловянным тазом, был прибит медный рукомойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил: Вот так работнички! Скажи ты ему слово он тебе десять! Скажи ему десять он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат, жрать захочешь, придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-о-нишься! Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти. Ох! сказал он, закрывая глаза и тряся головой. Ох, мати царица небесная! Две двери вели из прихожей. Одна, налево, в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем венчальная шкатулка Настасьи Петровны... В лавку! крикнула, приотворив дверь, кухарка. Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд. Здорово, Ильич, сказал, кивая мокрой манджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь. Здорово, кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестевший из-за раздвоенной губы мужика. Что надо? И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы. Лба не дадут перекрестить, собаки! бормотал он на ходу. Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом, великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным веником. «Лба не дадут перекрестить, думал он, страдальчески морщась. Зарезали, будь они прокляты!» Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано; «Его же и монаси приемлют»... Ай не надо? сказал он вслух. И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол. Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе. «Не до леригии нам, свиньям!» подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей! Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль. Страм сказать! пробормотал он. В Москве сроду не бывал! Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени, да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера! Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот, на полу (но среди густой ржи) лежат двое сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах, Бучнев, Выставкин и Богомолов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомолов по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Не что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича: Покойный Тихон Ильич... В горнице стало теплей и уютней от нагревшейся печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром, значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов, и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны заслышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво. Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь? Твою биографию жизни описать следует, насмешливо сказал однажды. Кузьма. А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич... Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала: Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных! И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло, опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике три дойных коровы, в отдельных красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу и сам черт не придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него: Балуй, анафема, разрази тебя громом! Опять он промочил ноги, прозяб шла крупа и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшенную кашу... Лицо раскраснелось, голова отяжелела. Не раздеваясь, только стащив нога об ногу грязные сапоги, он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу тоже... или нет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались... Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой сам Макар Иванович! Был Макар Иванович когда-то просто Макаркой так и звали все: «Макарка Странник», и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе, в лаптях, скуфье и засаленном подряснике, и зашел. В руках высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьем на нижнем, за плечами ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо широкое, цвета замазки, ноздри как два ружейных дула, нос переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший цигарку за цигаркой и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключающим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон, за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын». И Тихон Ильич оставил его у себя за подручного. Скинул с него бродяжью одежу и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями, настолько зловещими, что его посещений стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли и уж не обойтись тому дому без покойника. Теперь Макарка, в своей прежней одеже и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что́ пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее.Расплачется мать сыра-земля, разрыдается!
Заливался слепой,
Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется!
Убежденно вторил Макарка.
Перед Спасом, перед образом,
Вопил слепой.
Авось грешники покаются!
Угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:
Не минуют суда божьего!
Не минуют огня вечного!
Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать...
Целует, обнимает,
Прощается со мной...
Деревенская история
Ирку изнасиловали на школьном выпускном.
Вечер начался, как и заведено, с выпивки и танцев. Шампанское, «Солнцедар» потом портвейн. Ире Даниловой исполнилось семнадцать. Василию было двадцать. Рыжий черт. Высокий, фигура статная - все как надо. За ним девки табунами ходили. Пригласил Данилову на танец. Ближе к ночи предложил развести девчонок по домам. Васек шофером на «козле» работал, председателя возил. После армии люди ценились в колхозе, и ему сразу новую «красавицу» с брезентовым верхом дали. Девочки набились в машину. Развезли подружек. Вдруг, он с дороги сворачивает, как - бы в объезд поехал. А попутчиц рядом уже нет, вдвоем остались. Тормознул Васька на опушке леса.
Иркин дом уже недалеко был. Красота здесь днем необыкновенная. Пруд, поле, лес. Места она знала вдоль и поперек. Каждый кустик примечала, помнила, где что растет. За грибами ходила и всегда с полной корзиной возвращалась. В этом лесу все и случилось.
Ночь, тучи луну затянули. Васька приставать стал. Да так активно, по хозяйски. Ира аккуратненько, тихонечко ему шепнула:
- Погоди Вась, в туалет мне надо. Дай - ка я выйду...
И бегом в лес. Возле леса кусты высоченные, а между ними тропиночки животные проложили. Ирка по этим тропкам, через овраг вприпрыжку, и в сторону дома. Темнота, хоть глаз коли. Только дыхание тяжелое сзади услышала. Не успела добежать. Завалил ее Рыжий. К земле прижал, Ирка его вес на себе ощутила. Поцелуи никому не нужные, объятья. Деваться было некуда, да и выпила лишку. Склон оврага, острое Васькино колено да трава грязная, после дождя, вот и все что в памяти осталось. Да, еще платье белое из дорогущей парчи, весь семейный бюджет на него ушел. Наверное кричать надо было, звать на помощь, но страх и обида вели ее пьяные мысли совсем в другом направлении. Платье, платье… стучало в висках. Мысли о загубленном наряде отгоняли все остальные ощущения. Что сказать матери? Она два месяца ночами шила.
Утром нежное, совсем еще не яркое солнце заглянуло в избу и разбудило Ирочку. Подробности прошедшей ночи она помнила плохо, но сломанный каблук, сбитые в кровь колени и рваное платье напоминали ночной кошмар. На следующий день она назло всем пошла в клуб на танцы.
Василий пытался подойти к Ирке, но она отвернулась, сжала кулаки и отошла в сторону. Обида душила, но виду девчушка не подала и больше никогда с ним не разговаривала.
- Что за человек? Ну, какие это отношения? На первом свидании он уже, что - то серьезное затеял. Что ему нужно? Это уж только он знает, что ему нужно. Да? Любви надо было, ну и получил, что хотел. А мне не надо было, рано еще. Я-то думала, поухаживает, как все люди. А он ухаживать не стал. Нафига ему ухаживать. Хотел, какой - то новинки, ну и получил,-
бубнила про себя Ирка
После выпускного Данилова решила из деревни валить, причем, чем раньше, тем лучше и только в Москву. В селе она оставаться уже не могла, да и не хотела. Болтовни много, да и учиться негде. Проблемка была лишь в аттестате. Их в колхозе на руки не выдавали, молодежь берегли, чтоб по городам не разбежалась. В поле нужны были крепкие руки. Аттестат нужно было получать любыми путями. Ирка верила в успех. Председатель колхоза раньше за ее мамкой бегал. Частенько наведывался к ней на дальние выкосы. И нет, чтоб пёхом приходил, так он на служебном «козле» на свидания ездил, да еще и с водителем. Ирке об этом еще в девятом классе закадычная подруга по секрету сказала. Вся надежда на этот секрет и была. Не откажет ей председатель - выпустит на свободу.
Мамочка и отец против Москвы ничего не имели. Москва так Москва. Она могла и в Тамбов уехать, но в Москве общежитие сразу давали и стипендия выше. Ну и Москва есть Москва, что говорить - мечта.
Мамка проводила, дала карманных денег и уехала. Экзаменов никаких не было. Ирка подала заявление в строительное училище и получила койку в трехкомнатной квартире на девятом этаже общежития. Соседкой по комнате оказалась премилая бурятка Фая, которая вместе с Ирочкой пыталась освоить не самую романтичную профессию, но уж точно с самым длинным названием: маляр - штукатур, плиточник - облицовщик.
К девчонкам в квартиру ходил гость. Сосед по общаге Юра. Он всегда появлялся без стука. Когда Данилова его увидела в первый раз - глаза на лоб полезли. Девчонки полуголые ходят перед ним. Одежду мерят, одеваются, раздеваются, красятся и с Юркой общаются. Никакой реакции на мужской пол. Разговаривал визитер как - то странно, слова произносил протяжно и улыбался заискивающе. Ира девчонок спросила:
- Вы чего, подруги? Перед парнем - то раздеваетесь?-
Подружки разъяснили, что этот парень, и не парень вовсе, а подружка их - Юрка. Оказалось, что он давно с девчонками дружит. В рестораны и на танцы с ними ходит, а там новых друзей себе ищет, из «тех, кто не против». Бывало, и в глаз получал. Всякое бывало. От военной формы Юра просто млел. Так любил военных! Только про них и говорил. Иногда он уходил из ресторана очень довольный с новым другом под ручку. Уж как он их выискивал - никто не знал. Частенько после рюмки, жаловался девчонкам, что пару найти очень трудно, и жизнь у него тяжелая. Он был всегда в мужской одежде, коротко стрижен, гладко выбрит, опрятен и улыбчив. Юра был женат, но брак был оформлен ради московской прописки. Как только он получил комнату от завода, тут же развелся. После переезда на другой конец Москвы, Юра забегал в общежитие все реже и реже. Они были рады ему, поили «подружку» чаем и слушали такие интересные и странные рассказы про неведомую им, запретную «голубую» жизнь. Про мужчин, в основном:
- Девочки, вот что я вам скажу! Мужики такие наглые пошли. Еду как - то в автобусе, один ко мне прижимается, прижимается… Красавец мужик, все при нем, но наглец!…
Ирка как - то перед 8 марта решила пошутить над ним. Купила красивую открытку, стишок ему написала, вроде: «жду ответа, как соловей лета» а в конце подписала «С любовью и уважением – Володя», и адрес обратный: N -ская воинская часть. Имя Владимир, она не выдумала, слышала в Юриных бесконечных рассказах. Этот Володя провожал как - то Юру и розы дарил.
И вот через недельку Юра пришел на завод, принес открытку и всем рассказывал, что его поздравили, и что его любят и помнят. Люди хихикали, но не хамили, и парня не обижали. Он такой счастливый был в эти минуты, глаза горели! Данилова решила Юрку не расстраивать и правду не раскрывать. Пусть человек немного порадуется.
Жизнь в общежитии Ирку особо не донимала. В квартире было девять человек. В комнате жили вдвоем. Мешали очереди на кухню и в уборную. Но это только утром и вечером. В целом терпимо. Чужаков в общежитие в профилактических целях не пускали.
- «Береженного б-г бережет…» -
Мудро замечала вахтерша.
Но, гости тянулись и тянулись к своим подругам, и остановить этот поток было невозможно. Парни лезли через крышу на девятый этаж общежития. Потом рассыпались по комнатам. Иногда срывались, калечились, в милицию попадали, но количество страждущих не уменьшалось. С природой никто совладать не мог.
На проходной все было строго: выпускали с семи, пускали до одиннадцати. Ночью на засов. Стучи не стучи, хоть на улице ночуй – табу!
В выходные Ирке в общаге было муторно, поэтому по субботам она ездила к двоюродной сестре Маше, с ночевкой. Та обитала в таком же общежитии, на другом конце Москвы. Маша была старожил - в Москве жила уже два года и имела собственную комнату. В субботу сестра уходила гулять с парнем, звали его Сергей – он был бандит. Серега водил Машку по ресторанам и кино, а Ирка валялась на диване и наслаждалась бездельем, тишиной и халявной едой в холодильнике. Появлялась сестра только в воскресенье вечером. Маша частенько рассказывала о своем избраннике, всегда с юморком и любовью.
Серега окончил поварское училище с отличием. И не то, чтобы хорошо учился, просто парней на курсе было всего двое, и они были на вес золота. В спортивном зале этого же училища он по вечерам занимался каратэ у настоящего мастера-корейца. Сенсей русского языка не знал, поэтому единственным способом общения с учениками была толстая бамбуковая палка. Серега этот язык понял и признал сразу, и, стиснув зубы, старался освоить путь самурая. Бойцовая техника шла гладко, растяжку и эластичные мышцы дала природа. С огромными, вечно разбитыми кулаками, он стал похож на главного героя китайских боевиков, модных в то время.
Как - то на ринге, спарринг - партнер предложил «халтуру» - охранять коммерсанта во время торговой сделки. Деньги были хорошие, и Серега с удовольствием согласился. Работа оказалась плевая - покрутился у дверей полчаса, положил конверт в задний карман брюк и ушел. Клиент был доволен и смотрел на Серегу с опаской и уважением. За такие деньги в заводской столовке повару надо было два месяца корячиться. После этой «халтуры» все и началось. Посыпались заказы на охрану. Потом предложили работать на рынке, собирать арендную плату с лавочников. Работа ему нравилась - особо не напрягала, и на свежем воздухе. Успевал еще и каратэ заниматься. Стоило Сереге пройти по торговому ряду и потереть запястье рук, как продавцы тут же лезли в карман за деньгами. Иногда он выезжал с хозяином рынка к крупным должникам, но и там его присутствие было гарантией успеха - деньги отдавали сразу, и без лишних разговоров.
Именно в этот процветающий период своей жизни Серега познакомился с деревенской девочкой Машей. Каждый выходной он подъезжал за ней на своем, не очень новом, но очень крутом Мерседесе и они ехали в ресторан.
Ирка даже кричала от счастья, когда за Машей и Серегой закрывалась дверь:
- Ушли! Комната моя!
Практика у Даниловой была на Бескудниковском комбинате железобетонных конструкций. Производили на комбинате панели для жилых домов. Дома строились, панели делались, конвейер работал. Стали Ирку к труду приучать. Не бабье это, конечно, дело, но работали с цементом одни женщины. Мужиков в «тяжелые» цеха не брали – не выдерживали. Ирочка маялась на откосах. Панели домов огромные, но хрупкие - сколов много, вот девичьи руки их и выравнивали, заглаживали. Для начала Ирка решила запастись раствором. Налила полное ведро, дернула, а оно от земли не оторвалось. Как стояло, так и осталось стоять. Пришлось по половинке наливать, бегать больше, зато поднять могла. А дальше, по накатанной: ведро с водой в левую, с раствором и мастерком в правую и - вперед с песней! Руки мокрые, пальцы саднит, кисти уже к обеду не слушаются, спина не гнется. Панели двигались по конвейеру с упорством рычащего бульдозера. Зазеваешься, и мастер тебя живьем съест. Так начинались Иркины заводские мытарства. Она плакала и жаловалась, жаловалась и плакала. Лимитчица - выхода не было, надо было терпеть. Все свои беды выговаривала по ночам в подушку: про холод и тяжелое ведро, про сложные откосы и мокрые руки, про цементные корки на ногтях. На ладонях у Ирки появились глубокие серые борозды, как в полях после ливня. Компрессы и глицерин не помогали. На все свои стоны, она слышала одно и тоже:
- Привыкнешь, не ты первая…
Данилова валилась с ног. После смены сразу спать. А смены три. В цеху всегда свет горел, поэтому время суток не определялось, а рабочий день был бесконечен.
С Пашей Ирка познакомилась на автобусной остановке. Натянув вязаную шапочку на глаза и постукивая ножками от пронизывающего холода она, вдруг, заметила два карих глаза, устремлённых на нее. Их взгляды встретились. Мужчина улыбался.
- Подойдет - не подойдет?
-гадала Ирка.
Ему было вокруг сорока, красный, прихваченный морозцем нос и большие карие глаза. Больше ничего видно не было. В автобус сели вместе. Он подошел, снял шапку, спросил что - то. Ирка не запомнила вопроса. Все ее внимание было направлено на выступающую лысину кавалера. Он заговорил с Иркой, она ответила, невпопад, конечно, ляпнула какую - то глупость, но это было уже не важно. Они друг другу понравились. Ирка была готова к знакомству. Манеры у мужчины были хорошие, речь правильная, московская, не приезжий. Для Ирки это было важно. Да и имя у него было, какое - то легкое, на выдохе - Пашка. Это не какой-нибудь Васька или Виктор, которых в деревне было как «собак нерезаных». Ему было 38, ровнехонько на 20 лет старше, и в комплекте к нему прилагались жена и двое ребятишек. Пашка этого факта и не думал скрывать, он гордился наличием семьи, и всегда говорил, что жену любит. Это его проблемы, решила Ирка. Она совершенно свободна, как ветер, и совесть у нее была абсолютно чиста, ну ни одного облачка.
Паша оказался уютный, чистоплотный и образованный мужик. Работал он преподавателем в военной академии, подполковник. Как, там у Грибоедова? «Полковник - метит в генералы», так вот Павел метил в полковники, причем в ближайшее время.
Ирка решила не тянуть резину и на втором свидании со счастливой улыбкой и сверкающими глазами отдалась ему. Пашка был в восторге от молодой любовницы, снял «однушку» в Медведково, и перевез туда девушку. Сразу поменял грязный унитаз и засаленную плиту. Купил новый телевизор и широкую, как аэродром, тахту. Это была первая ее победа в Москве, и жизненные тяготы немного отступили. Любовник не пил, не курил и не бил. Ласковый был и заботливый. Театры и рестораны Пашка не посещал. Он любил бега. Жена с ним на бега не ходила. В дни заездов Ирка приводила себя в порядок, торжественно брала Пашку под руку и они шли на ипподром. Ирка раньше на бегах не была. Опыт общения с лошадьми ограничивался отцовским любимцем Малышом. Конь был рыжий, с серыми пятнами, умный, хитрый и ленивый. Отдых – была его стихия. Когда просил кушать, стучал зубами. Потом долго, и, с явным удовольствием, жевал овес. Мужиков Малыш терпеть не мог, от них несло самогоном и табаком. Женщин подпускал к себе и слушался. Отец запрягал коня по два часа, никак не мог хомут с гужами надеть. Жену звал:
- Нинка, иди сюда, с Малышом справиться не могу!
Отец брал коня за поводья и шел с ним за сеном или дровами. Перед подъемом в горку Малыш начинал пятиться назад и садился задком на телегу. Норов показывал. Оглобли ломал. Отец, зная характер коня, всегда с собой запасные оглобли брал. А если не в духе Малыш был, то и отца возить отказывался, ждал, пока тот с телеги слезет. Так и шли они рядом: конь и отец.
На ипподроме было прекрасно. Красивые, ухоженные лошадки. Яркие наездники, тележки разноцветные. Музыка играет. Люди солидные, Ирке улыбаются, ставки делают, за своих лошадок болеют. В буфетах шампанское подают и конфеты вкусные с ромом. Над витриной большой плакат висит:
« От конфет с ромом - до рома без конфет!!!»
Заезды и тотализатор ее увлекли. Ирка с удовольствием ставила свой рублик на приглянувшуюся лошадку. Деньги для ставок выдавал Пашка, при этом не скупился и всегда был в прекрасном настроении. На финишных рывках Ирка, как и все вокруг, кричала неистово и громко - болела за свою избранницу. Вот уж, где она находила выход своим зажатым эмоциям, так это на ипподроме. Стесняться здесь было некого, и вся ее напряженность и неуверенность куда - то растворялись.
Пашка оказался отличным любовником. Ирка приоделась и приобулась и к девчонкам в общежития уже ходила этакой «московской павой». Квартира была хоть и съемная, но теплая и тихая. У Ирки это было первое в жизни свое жилище, и она всячески пыталась создать в нем уют. Обои отодрала в первый же день. Стены покрасила в теплые тона. Везде поставила вазочки, на деревенский манер, и горшки с цветами. Пашка ее хвалил. В доме была стерильная чистота и порядок. Им было хорошо вместе.
Ирка закончила учебу в училище с отличием и распределилась на завод Железобетонных конструкций в Бескудниково. Приближались каникулы. Она собралась на побывку в родную деревню. Пашка предлагал отвезти ее на своей машине, но Ирка решила ехать поездом.
За билетами в очереди три часа стояла, на Павелецком вокзале. Еле выстояла, а кассир глянула на нее, словно из суфлерской будки, и громким, сорванным, голосом заявила:
- Мест нет. Легче в Африку на лыжах уйти, чем к вам в Тамбов уехать.
Ирка эти слова на всю жизнь запомнила. С билетами помог Пашка, хотел купе взять, но Ирка заартачилась и попросила плацкарту. Так ей привычнее было.
Отпускница расположилась на нижней полке боковой плацкарты и решила почитать. Вдруг в тамбуре раздался шум. В вагоне появилась громкая компания, каких - то ободранных, подозрительных парней. Они поравнялись с Иркой, стали с ней заигрывать и звать в другой вагон. Данилова испугалась. Но мальчишки и не думали уходить, подсели рядом и завели разговор о житье - бытье. Ира решила, что они беглые зеки, и сидела на своей полке с выпученными от страха глазами и лицом бледной спирохеты. Выручила соседка, толстая тетка с добрыми, пухлыми ручками и наливными щёчками.
- Милая, ты не бойся, они в армию служить едут. Призывники. Давай чайку попьем, присаживайся к нам. Успокойся, кто ж зекам даст по вагонам ходить.
Спасительница подвинулась на полке и освободила узкую полоску для Ирки.
Когда разобрались, кто есть кто, Данилова, сидя под защитой тетки, осмелела и заговорила с ребятами. Оказались хорошие московские парни, а драную одежду нацепили, чтоб не жалко было выбросить в воинской части. Мальчишки «разошлись», раскраснелись, стали адрес и телефон спрашивать, в гости звать. Тут Иркина защитница не выдержала, вступилась и прогнала их в другой вагон. О чем говорили парни, Ирка давно забыла, но такое повышенное внимание к своей персоне, вспоминать было приятно.
Отец встречал Ирку на тракторе. Он работал трактористом, и железый конь, всегда готовый к поездке, стоял у дома. Поезд был проходной, и на станции Чакино стоял всего минуту. Пришлось поторапливаться. Ира увидела отца издали, прыгнула в тележку и долго тряслась на свежей благоухающей соломе.
Село Лукино спряталось в самой глуши Ржакского района среди полей и лесов. В Лукино давным - давно была церковь, поэтому оно гордо величается селом. Церковь в революцию снесли, и на этом месте образовалась огромная яма. В память о храме поставили крест. Люди приходят поклоны бьют, цветов много. А в праздники в лес идут, к Святому колодцу. В колодце вода серебряная, даже песочек блестит. Веруют люди в ее силу. Батюшка приезжает издалека, привозит большую икону Божьей Матери и Крест Святой. Приглашают его на большие праздники. Народ на Троицу собирается со всего села. Молятся. Кустики ломают и водичкой брызгают друг друга, освящают. Потом веточки домой приносят, на пол стелют. Колодец расположился в низинке, место очень красивое. Дубы с рябинами в обнимку, а вокруг ивы серебристые. Вода из-под земли идет и никогда не портится. Сельчане ее впрок набирают и домой несут. Потом вода в пруд стекает, рядом с Иркиным домом. Из пруда, через две трубы в ручей, и в речку.
За лесом футбольное поле было. Как только снег сходил, и появлялась первая травка, все село собиралось на поле в лапту играть. В воскресенье играли с утра и до позднего вечера. Любили сельчане лапту. Просто все: мячик да палка. Захватывает быстро, не оторвешься. Все бегают, смеются, ловят друг друга. После игры приходили домой усталые, ноги «отваливались».
За фермой поле показалось бабушкино…
До Лукино фронт не дошел. Бабушка Степанида рассказывала, что на этом поле, на границе с Золотовкой, ложбинка есть. Банда там в войну размещалась. Деревенские мужики все воевали, не до бандитов было. В своре бывшие зеки были и дезертиры, местные все - тамбовские. Днем они в шатрах жили, отсыпались, а ночью грабили, убивали, насиловали. Ватага была большая, Семеновские их звали, по имени главаря Семена. Милиция Тамбовская к концу войны собралась с силами и весь этот сброд отловила. На этом поле их прилюдно и расстреляли. Приказ объявили в сельсовете: трупы не трогать, в устрашение пусть лежат, и другим, чтоб неповадно было. Ночью поле никто не сторожил. Пришли жены и дети расстрелянных, тела разобрали и неподалеку закапали. Утром, когда солдаты появились, на поле уже никого не было. Степанида говорила Ирке, что бандитов кто–то из своих сдал.
Поля, поля…
Дорога была разбита всегда. В этой разбитой дороге деревенские видели главную причину своих бед. Телегу с Иркой таскало из стороны в сторону, но на соломе было чисто и мягко. Ничего не видела она краше полей сеяных: рожь, пшеница, овес, ячмень, гречиха. Поля с кориандром как небо бело - голубые, глаз не оторвешь. Гречиху ни с чем не сравнишь и не спутаешь, стебельки бордовые, листики серые, а цветы голубые - красота неземная.
Эти поля, Иркино родное было, естественное. Раньше она их не замечала. Были и были. А сейчас впервые любовалась ими, соскучилась.
Показалось Лукино, проехали сельмаг и больницу. Дальше за оврагом огород, кормивший Даниловых картошкой и свеклой. За углом появилась парикмахерская и швейная мастерская. Мастерской старуха заведовала, Жерчихой ее звали, мужа у нее никогда не было, одиноко жила. Руки золотые имела, за это народ уважал ее. Окликнула она Ирку:
- Милая, ты, чья будешь-то?
- Ирка я, дочь Женьки, Василия Григорича.
Жерчиха головой кивнула, признала значит.
Утром Ирку разбудили удары топора, мама колола дрова, отец что - то мастерил в дровнике. Подружки прибежали, все новости выложили, о Москве расспрашивали. Доложили, кто с кем ругается в селе, а кто и помирился давно. Мама накрыла стол к завтраку. Покушала Ирка вкусно и сытно, платок подвязала и на работу с мамой собралась. Решила помочь. В деревне работа всегда есть. У Даниловых гектар свекловицы был. Зимой женщины не работали, а с апреля по ноябрь свекловичный сезон. Мамка свекловичница была. Пахала с утра до ночи. Посеять, прополоть три раза, затем окучить да убрать вовремя. Вроде и вся премудрость.
Вышли за ограду, залезли в кузов грузовика, который баб по полям развозил. И вперед к своему участку по огромному свековичному полю. И в выходные отдохнуть не получалось, дома кутерьмы много: две коровы, два телка три поросенка, свинки да овечки. Мама, в полпятого вставала, выводила скотину к пастухам. Пастухов каждый двор по очереди выделял. От Даниловых отец ходил в свою смену.
В обед на поле бабы стряпню раскладывали, байки травили, хохотали и во все горло частушки орали:
«Полюбила генерала,
А потом политрука,
А потом всё выше, выше
И дошла до пастуха.»
Где - то подхватывали:
«Насмотрелся дед порнухи,
Начал дед дурачиться
Деревенские бабульки
По чуланам прячутся.»
Обед только час. Покушать, попеть и спать - все успеть надо. Радовались дождю, счастье великое - в дождик не работали. Назад, по домам развозили. Ирка молила, чтоб дождик пошел!
Грязнуха, улица длинная, зигзагом через все село идет. Дорога разбитая и фонарей нет. Темень вечером, хоть «глаз коли». В третьем доме от колодца жила пара - Ванька с Манькой. Ванька алкаш был. Все что можно он уже пропил, на магазин денег не было, и он каждое утро запрягал лошадку и шел гулять до обеда. Собачка его всегда рядом была. Шавка маленькая, неприглядная. Лаяла вечно и прыгала на него. Обратно он уже на телеге ехал «хорошенький», лошадь везла его домой, а собачка сзади бежала. Однажды, доехал пьяный Ванька до пруда, колесо в ложбинку угодило, и телега на бок завалилась. Вывалился Ванька на зеленую травку. Лошадка головой покрутила, и домой пошла. Иван прямо у воды спать улегся и начал в ил сползать. Умная собачка, сразу почуяла беду - хозяин утонуть может. Схватила его за ворот рубахи и тащить стала, от воды подальше. Сил не хватило. Лаять и визжать начала - на помощь звать. Ирка услышала собачий лай, маму позвала, и они Ивана из воды вытащили. Потом его Манька забрала. С тех пор Манька с Ванькой с Даниловыми дружили и кланялись издали.
Были выходные. Все вместе пропололи огород, и каждый своими делами занялся. Отец решил порыбачить. С утра начал. Накопал червячков и пошел к пруду. Вода в нем проточная, чистая, камни разноцветные, красота, одним словом. В пруду караси водились. Приходит отец минут через пятнадцать и опять червяков копать. Карась, видать, плохо брал. Накопает, и опять сидит на скользких мостках. Удочку двумя руками держит. А как червяков накопает, почему - то закусывает. Жует все время. Или яблочко съест или в курятник пойдет, яичко выпьет. К вечеру он совсем пьяный был. Мама решила проследить за отцом незаметно. Никак понять не могла, что происходит. Затаилась за сараем. Отец вместо червяков достал из навозной кучи банку трехлитровую. Хлебнул самогона, закусил яблоком и опять закопал ее. Вот и вся премудрость. Утром Нина перепрятала банку с остатками первача в дальний сарай с пшеницей.
Конец этой истории мамочка уже телефону рассказывала:
Где- то через год она попросила отца покормить кур. В кормушках зерно кончилось, и он в дальний сарай пошел. Когда насыпал зерно, что - то звякнуло, полез рукой, а там банка. Он про кур сразу забыл. Хряпнул первача вволю. Мамка его и застукала. На этом рыбалка закончилась. Ирка долго смеялась над этой историей.
У Ирки дядька был, отца младший брат, его Викотором кликали. С ними в одной деревне жил. Высокий, стройный, с выправкой военной. В армии он на границе служил и этим очень гордился, всегда вспоминал эти годы. В доме все сам делал, хозяйственный мужик, рукастый. Две беды у него было: женщин боялся и водку любил. Почему он от женщин шарахался, понять никто не мог. Когда трезвый был, он дам стеснялся, ни с кем не заговаривал и ни за кем не ухаживал. На работе и с друзьями у него все было хорошо, а жениться не получалось. Может и пил с этого. Ходил Викотор к одной старушке-подружке, умом недалекой. Одна она жила. За старушкой ее родственники присматривали из соседней деревни. Он к ней только пьяный ходил. Старушка к Иркиной бабушке потом приходила с гостинцами и сваталась за дядьку. Бабушка ее прогнала, лет на тридцать та старше была. Викотору 35 стукнуло, а ей за 60 перевалило. А когда выпьет дядька, буйный становился. Мог кинуться на кого угодно и драку начать. За столом сидит, отдыхает. Рюмочку выпьет - молчит, вторую - улыбается, а после третьей рюмочки - хватает свою жертву за грудки и орет:
- Ты меня уважаешь?
И не важно, кого прижал, мужика или бабу, все одно. Кричали ему люди, пытались приструнить:
- Викотор, уймись!
Руки вязали, да куда там. Крепкий медведь. Что потом будет, его не волновало. Если жертвы отвечали, что уважают дядьку, то он отходил в сторонку. Если молчали или ерепенились - сразу бил в глаз. Начиналась драка. Он всегда первый драки начинал. Ну кто такое терпеть будет? И Викотору доставалось, мужики его часто лупили. А на утро он ничего не помнил. Приходил к брату похмеляться. И говорит тихонечко:
- Ну, где у вас тут чайничек? Чайничек - то где?
Чайник, это означало, что он первачок ищет. Самогонку, когда гостей было много, в трехлитровый чайник наливали и пускали по столу. Удобно было, каждый себе наливает, и самогон долго не кончается.
Викотор пил часто и без «шнапса» не работал, а работал, он хорошо. В Иркиной семье все работяги были, но принять было обязательно. Для верности. А уж после работы не выпить, это вообще «грех». Вечером все трактористы сдавали технику и их, на грузовиках, развозили по домам. Викотора привозили только лежа, иногда связанного, чтоб не бузил. Его грузили в самосвал и подвозили к порогу дома. Кузов поднимался, и дядька летел в траву. В полете Викотор матерился и орал, а потом лежал ничком в траве. Позже бабушка Степанида его в дом перетаскивала, мыла, накормить пыталась, спать укладывала. Памятник Степаниде Ивановне поставить надо было при жизни, натерпелась она от сыновей.
С Викотором постоянно случались какие – то истории. Весной, в конце рабочего дня, ехал Викотор на тракторе, технику под навес ставить. И завернул не в ту сторону. Как потом шутили - «Не в ту степь». Переехал через речку, поднялся на бугор, который над глубоким оврагом возвышался... И заснул. Упал на рычаг и трактор стал в одну сторону круги наматывать. Места холмистые, опасные. До оврага оставалось метра два, не больше. Сельчане его увидели, побежали к брату, отцу Иркиному. Женя влез на бугор, запрыгнул в кабину, дернул рычаг и остановил трактор. Еще пару минут и Викотор улетел бы с высоты и погиб. Пьяный был! Трезвым, скромным, рассудительным, умным его родные видели редко. А дерябнет, дурак - дураком. Два разных человека.
Викотор так и не женился. Бабушка пыталась его познакомить с женщинами, даже в дом их приводила. Дамы ухаживали за ним, кокетничали, а он все больше и больше закрывался. Боялся их. Общаться он мог только навеселе, а хмельной к своей старушке - подружке шел, любил, наверно. Ирка маленькая, ходила с подругами к дому старушки. Подглядывали. На окно стукалочки ставили. Из кустов веревочку дернут, постучат, постучат и бегом. Старушка выбегала - ругалась. Бабушка Степанида умерла, а старушку – подружку родственники в дом престарелых отдали. Остался Викотор без пригляда и умер, в запое. Напился с приятелями и захлебнулся. Нашли его только через неделю. Случайно нашли.
У матери особый дар был. Она узнавала по звуку трактора в каком состоянии муж едет - пьяный или трезвый. Или могла запросто угадать, кто едет на тракторе Викотор или дядя Ваня или механик Солнышкин. Как ей это удавалось, никто не знал, и повторить не мог. Когда отец домой ехал, мамка за километр звук трактора слышала и сразу кричала:
- Ирка, напился Женька, пьяный едет!
Отец после получки всегда с дружками выпивал. Потом пьяные они по домам разъезжались. Любил Женя газануть. Поднимал передние, маленькие, колеса трактора и, как заправский байкер, на одних задних гонял по деревне. «Белорусь» его, как конь на дыбы становился. Трезвый он так делать не мог, духу наверно не хватало. А поддатый, вытворял на тракторе чудеса. И нигде ни разу не споткнулся, ни перевернулся, и в воду не попал. Ни одного происшествия. А когда трезвый был разное случалось. И в овраг падал и в воде плавал и колеса пробивал.
Было в селе у Ирки две подружки - Октябрина и Галя. Галя с ней в одном классе училась. За одной партой сидели. Семья у нее была бедная, а Галька скромная и хорошая. За младшей сестрой ухаживала, за хозяйством присматривала. Мать с отцом дома почти не бывали - много работали. Мама дояркой, а отец пастухом на ферме. Ладная семья, дружная.
В старом здании медпункта жили две сестры. У одной был сын и дочка – Октябринка, у другой два сына.
Сами сестры с головой не дружили. И дети были неухоженные, брошенные. Сами по себе росли. Октябринка из них выделялась – толковая девочка, опрятная, училась хорошо. Мальчишки воровали. Когда еще маленькие были, на это деревенские глаза закрывали, а когда уже подросли, стали милицию звать. Старший, по кличке Шпион, сел первым, пару банок варенья и курицу стащил, срок дали небольшой. Вышел, месяца два погулял и опять сел. Так и жил в тюрьме, редко его в селе видели. Шпион весь разрисован был под «хохламу». На теле живого места не осталось. А после десяти лет колоний, он уже на веках написал – «Не буди», чтоб спать не мешали. Между сроками Шпион учил младших уму разуму. Выбора у них не было. Воровали всё подряд.
Сестры пытались как - то накормить детей, обуть, одеть. Сложно им было. Относились в колхозе к ним плохо, считали ненормальными, и работу давали невыгодную. И к мальчишкам так - же относились.
Шпион умер в тюрьме. Младший брат подрос и решил жениться. Мать счастлива была. Надежда появилась. Невеста, хорошая девочка была, но с брачком. Ее в четырнадцать лет изнасиловали. Вся деревня судачила. Трудно ей было замуж выйти. А младший взял ее, хоть и знал все. Как замуж вышла девочка, сразу родила. Младший тоже пару раз сидел, но после рождения второй дочки воровать перестал, одумался.
Среднего брата Гусем величали за походку вразвалочку. После первой отсидки вышел и стал гулять с милой девчушкой из Морозовки. Она особенная была – забитая, какая - то, глаза не поднимет, слова не скажет. Забеременела от него. Сестры узнали, наложили ведро яблок (хоть у всех их завались было) и пошли в Морозовку к этой девочке свататься. Мать ее отказала. А девчонка влюбилась по уши и ничего слушать не хотела. Уперлась и вышла замуж за Гуся. Не послушала родителей. В колхозе дали им хорошую квартиру сразу после свадьбы. Он в скотники пошел, она дояркой трудилась. Работали, квартиру обставили. Хорошо жили. Ребеночек родился. Больной. Мать заставляла ее аборт делать по - черному у деревенских повитух. Кустарным способом. Выкидыш не получился, а что - то нарушилось - ребеночек родился с большой головой. Они любили этого ребенка и не бросали. Ухаживала за ним вся деревня и помогали кто чем мог. По очереди дежурили, когда он болел, лечили всеобщего любимца. Ребенок все равно умер. До десяти лет дожил. Лет через пять она опять родила хорошую здоровую девочку. Гусь крепко на ноги встал и воровать бросил.
В селе по выходным кино крутили, потом были танцы. Танцы это целое событие в деревне. Компании приезжали из соседних деревень. Чужаки заезжие, никак не могли с Лукинскими девчонок поделить. Драки начинались. Колхоз на колхоз, деревня на деревню. Иногда драчуны из района приезжали удаль молодецкую показать. Прибыла как - то компания с Золотовки. Нашу девочку танцевать пригласили. Ну, потанцевал бы, да и ладно, а тут еще и провожать пошел. Катастрофа. На следующий вечер собралась целая ватага, человек пятьдесят. Пришли на танцы в Золотовку, нашли этого ухажера и задираться начали. В Золотовке уже свои бойцы ждали. Началось «Куликово поле». Дрались молодцы с «доблестью и рвением». Мелькали кулаки и палки, но, и до ножей доходило. Даже девочки в командах были, они как медсестры, раны зализывали, да битых оттаскивали. Проходила неделя. Золотовские дружину собирали и мчались в Лукино мстить. Иногда месяцами дрались, а с чего началось, уже никто и не помнил.
Как - то осенью после уборочной, потасовка была, война настоящая. Весь район на поле выходил. Одни этой деревне помогали, другие той. Милиция войска из области вызывала. Следствие долго шло. Все, молитвами сельчан, живы остались, но раны были серьезные.
Ирка уже в Москву собиралась, а отец позвал в поле за сеном съездить. На зиму заготовки делать. Выехали за село. До стогов добрались.Ирка предложила отцу крепче сено лепить, чтоб больше в тележку вошло. - лишний раз не кататься. Складывать сено - целое искусство. Отец подавал, а Ирка сверху по кругу лепила. Набрали полную телегу, стог высоченный получился. К коровнику поехали. Ирка высоко сидела. Болтало ее телегу, болтало и уболтало. Заснула она, как принцесса на горошине. Проснулась от холода. Глаза открыла - сено колет.Разгребла стог, глина вокруг и лужи ледяные. Вылезла Ирка из стога вся грязная и мокрая, зуб на зуб не попадает. Темнеть стало. Ничего понять не может. Домой пошла. Маме все рассказала. И вместе отца искать. А он спит давно, похрапывает. Наутро все выяснилось. Выкинул отец Ирку вместе с сеном у коровника, да и дальше поехал. Хорошо вилами не ткнул, а то бы дырки остались.
Быстро промчалось деревенское лето.
На станцию отец отвез Ирку на той же телеге, только подстилка была другая, осенняя. Сено пахло терпкой, пожухлой травой, а свежая солома, с запахом хлеба, то и дело колола ей ноги.
Ирка залезла на верхнюю полку боковой плацкарты и тут же заснула. Ее ждала Москва: жесткий разрыв с любовником, сватовство, замужество, рождение дочери, развод, появление долгожданной внучки, поздняя любовь…
Но это уже совсем другая история.